Ностальгия детство стихи — лучшие цитаты, высказывания и афоризмы
Популярные категории
- Мысли (249526)
- Стихи (181511)
- Юмор (168747)
- Жизнь (134677)
- Любовь (101903)
- Ирония (83667)
- Отношения (56824)
- Анекдоты (34607)
- Люди (29577)
- Женщины (22922)
- Чувства (21610)
- Размышления (17884)
- Цитаты (17534)
- Счастье (17103)
- Проза (17039)
- Все категории
Популярные авторы
- Игорь Губерман (904)
- Ринат Валиуллин (851)
- Эрих Мария Ремарк (830)
- Омар Хайям (787)
- Пауло Коэльо (767)
- Ошо (692)
- Эльчин Сафарли (678)
- Марина Цветаева (620)
- Оскар Уайльд (592)
- Владимир Высоцкий (589)
- Эдуард Асадов (567)
- Михаил Жванецкий (548)
- Уильям Шекспир (536)
- Лев Николаевич Толстой (504)
- Ашот Наданян (490)
- Все авторы
Смотрю фотографии школьного бала,
И кажется, — все это было давно…
Мы стали другими, мы стали чужими,
А многих увидеть уже не дано.

Давно уже нет Антыхалны любимой,
Семёныча нет, Мари Палны нет,
Абозиной нет и Попёхина тоже,
А Тимофевне мы все шлем привет.
Строй одноклассников тоже редеет:
Ушли Закарлюк, Куренков, Карташов,
Нет Тани и Нади, нет Севы и Юки,
Обоих Поповых, нет Саши Шрамко.
Смотрю фотографии школьного бала
И кажется ,-все это было вчера:
Дружили, влюблялись, сбегали с уроков.
Мы были родными,
Девчонки-мальчишки 10-го А!!!
#мысли#ностальгиядетствостихи
Увы, нам в прошлое вернуться не дано,
Нам в прошлое вернуться невозможно,
Но хочется вернуться, все равно,
И прикоснуться к детству осторожно.
К хрустальному сосуду, к роднику,
К тончайшей паутине среди лета,
К сосульке хрупкой, к школьному звонку
И к первому любимому поэту.
К родимой маме с добрыми руками,
И к милой Однокашке, живущей через дом,
И к полю ржи, куда за васильками
Мы часто бегали вдвоем.
Я знаю в прошлое вернуться не дано,
Я знаю в прошлое вернуться невозможно,
Но хочется вернуться все равно
И прикоснуться к детству осторожно!
#стихи#ностальгиядетствостихи
Внизу, под лестницей живет
Медведь без лапы, бегемот
Без уха и без глаза.
Два голых пупса, крокодил
Матрешку лапой придавил,
Колесик от «КамАЗа»
Где сам «КамАЗ», не помню я.
Меняло жительство семья
И в переездах, где то.
Возможно вспомнится сейчас,
Что тот игрушечный»КамАЗ»
Во двор отнес соседа.
Лежат под лестницей в пыли,
В углу корветы, корабли
«Неистовый»и»Смелый»
Без трех бочоночков лото.
Где делись? Не сказал ни кто.
Искать, пустое дело.
Набор солдатиков всех стран
«О, кей»»Ура»»На пасаран»,
Два танка, но без пушек.
Шесть пузыречков от духов,
Набор рыбацких»мушек»
Казалось бы, про все забудь,
Но сердце щемит, не уснуть.
Так что же так тревожит?
Попробую, когда нибудь
Обратно в детство заглянуть.
Надеюсь, что поможет.
Что потянуло, не понять,
Туда, под лестницу опять.
Попробую спуститься.
Включил фонарик. Вот…Сейчас…
И снова память дарит шанс
Вновь в детстве очутиться.
#стихи#ностальгиядетствостихи
Вьётся над крышей дымок ранним утром,
Тикают ходики, тени длинны.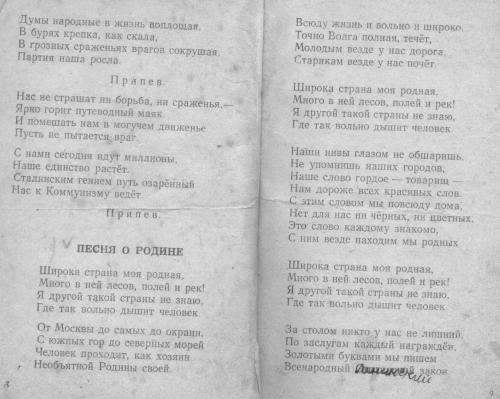
Бабушка (и не ложилась как будто)
К завтраку делает внукам блины.
Нас пробуждал этот запах из печки —
Сдобный, насыщенный — в доме уют…
И на душе вдруг становится легче —
В детях (сквозь годы) себя узнаю.
…Брат и сестричка в саду возле дома,
Наш умывальник с криничной водой…
Старые снимки ожили в альбоме,
Каждый теперь охраняет свой омут —
Выросли. Нашей в том нету вины…
Прошлого эхо — нет-нет, да напомнит —
Лето, деревня, а в печке — блины…
#стихи#детство#ностальгиядетствостихи
А помните, в детстве мы ели сирень
На счастье с пятью лепестками?
А помните, в дом мы бежали скорей?
Диснея мультфильмы нас так забавляли.
А помните, бублик на пальце вместо кольца?
Съедали их так. Так было вкуснее.
А помните, строили домик скворцам
Чтоб ночью холодной им было теплее.
А помните, варежки теплые зимние?
Так весело дергали их за резинки.
А помните, как мы гуляли под ливнями?
А зимними днями глотали снежинки?
А помните, строили мы шалаши?
Под стульями днями сидели на кухне.
А помните, мы залезали в кусты?
Зажигали костер, что долго не тухнет.
А помните, верили в души зверей?
Тех, что сидели на книжной полке.
А помните, как мы пугали людей?
И как же велись все на наши уловки?
А помните, крик под окном: «Выходи»?
По телефону: «Теть Маш, а выйдет Рома?»
А помните, люди спокойно не могут пройти?
Стали в футбольную стенку у дома.
Вы тоже читаете эти стихи
С улыбкой снова о детстве мечтая?
Ведь хочется вновь по тем паркам пройти
Память свою будто книгу листая.
#стихи#детствозолотое#ностальгиядетствостихи
Как хочется назад вернуться
И книгу жизни полистать,
И что там есть всего роднее
Из глубины её достать.
И первую любовь, и детский лепет,
И первый жар прикосновенья губ,
И радость встреч, и время ожиданья,
И горечь, боль ушедших вдаль разлук.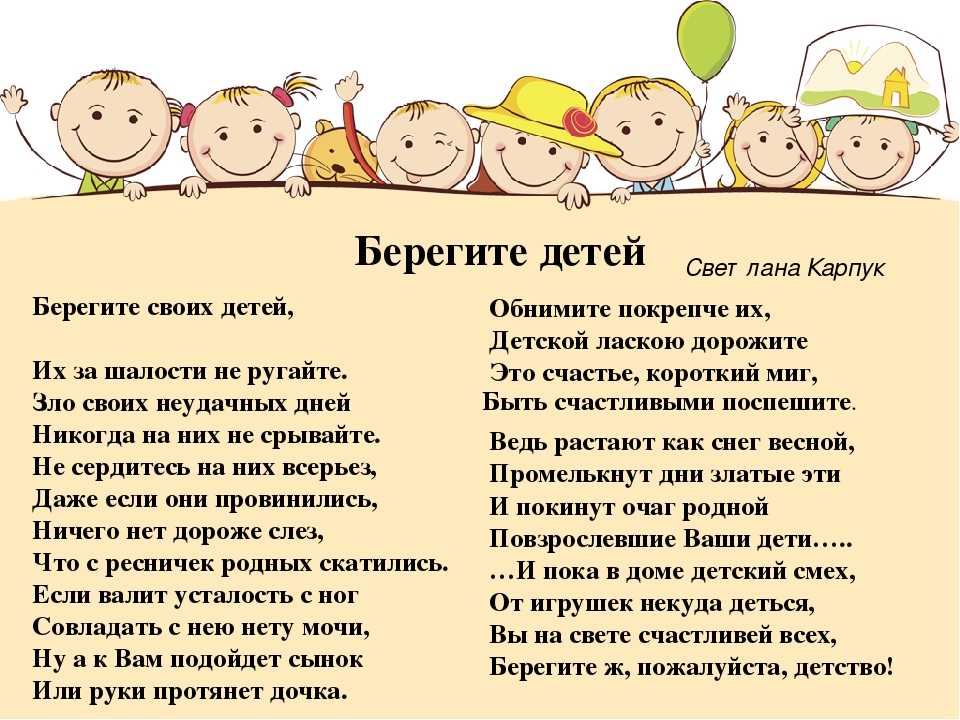
Как хорошо, что есть на свете память,
Как хорошо, что есть любовь на свете,
Как хорошо, что есть желанье жить!
Плывут за пеленою лет картины,
В туманной дымке брезжится рассвет,
Как жаль, что всё от нас ушло с годами
И в прошлое назад дороги нет.
#стихи#ностальгиядетствостихи
Мы так стремительно, так быстро повзрослели,
Но это внешне только. А в душе
Качаемся ещё на карусели
И прячемся в уютном шалаше.
За школой — универ, потом работа…
И за спиною не один десяток лет.
Эх, плюнуть бы на все эти заботы
И встретить у реки шальной рассвет,
Купаться до утра в прохладной влаге
И под луною кушать шашлыки.
Поехать бы, как раньше, в «старый» лагерь
И видеть детский смех, а не клыки…
Диплом. Потом, возможно, заграница.
Рожденье сына… И бессонной ночью
Однажды мне привидится-приснится
Девчушка, что так весело хохочет,
Сжимает куклу, шепчет: «Поиграй-ка!»,

На ней моя цветная — в клетку — майка,
И карие задорные глаза…
Вздохнув, отвечу: «Я теперь другая.
Я много ем и очень мало сплю.
Бывает, временами забываю
О тех, кого, казалось бы, люблю.
Мне некогда играть с тобою в куклы —
Мне надо плащ в химчистку отнести…»
Девчушка посмотрела взглядом грустным
И тихо прошептала:»Бог простит.»
И спряталась. Исчезла… Я проснулась.
Под боком — муж. Сопит малыш-сынишка.
Я словно после стольких лет очнулась —
Во взрослость заигралась, видно, слишком.
И «N»-ный пусть идёт десяток лет…
И пусть морщины в уголочках губ смеются —
По прежнему хочу встречать рассвет
И дуть на крепкий чай в горячем блюдце.
Хочу валяться в скошенной траве,
Смотреть, как в небе проплывают тучи.
Бродить по жёлтой, выцветшей листве
Хочу лепить дворцы в сыром песке,
Носиться дотемна в дворе с друзьями.
И жить в своём придуманном мирке,
Где радости не меряют деньгами.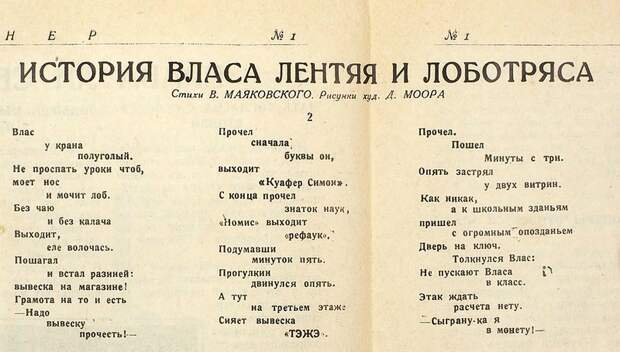
Мы взрослые. Умеем говорить.
Серьёзными становимся людьми.
Но все, в итоге, глубоко внутри
Мы навсегда останемся детьми…
#стихи#ностальгиядетствостихи
Что поделаешь? Мчатся годы.
Вот и мы постарели уже.
Постепенно к финалу подходит
Нашей жизни простой сюжет.
Уж изрядно виски побелели,
И морщинки сбежались у глаз,
Но, встречаясь на юбилеях,
Молодеет каждый из нас.
Позабыв про болячки, невзгоды,
Мы уже легки на подъём,
И неважно- какая погода,
Веселимся, танцуем, поём.
Здесь девчонки мы и мальчишки,
Повернувшие время вспять.
Как приятно звучит- Иришка!
Так ровесник лишь может звать.
Мы сейчас как одна семья,
Отчеств нет да и званий тоже,
Так общаются лишь друзья.
Не начальник ГАИ, а Вовка
Рассмешил анекдотом нас,
Не учитель строгий, так ловко
Наша Галя танцует вальс.
Мы счастливого времени дети,
Жаль-его называют «застой».
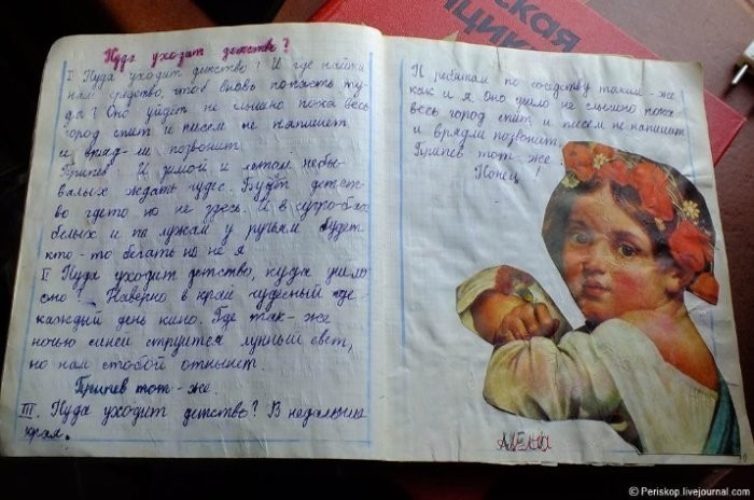
Голод, холод, война- всё это
Не коснулось нас злобной рукой.
И лишь сердцу порой тревожно
За судьбу наших внуков, детей:
Всё непросто и всё возможно
В объективе сегодняшних дней.
#стихи#ностальгиядетствостихи
Мне снится наш вишнёвый сад,
На доме ставни голубые
За домом сладкий виноград
Кусты малинника, густые.
Дом пропах весь тишиной,
В углу паутинка свисает,
С портрета смотрит папа мой
Моё сердечко замирает.
А над извилистой речушкой
Черёмуха весною расцвела,
Моя лесная деревушка,
Я иду по тропиночке узкой
По тем милым, знакомым местам,
От дождей покосилась избушка,
Да на поле растёт там бурьян.
Опустела теперь деревушка,
Петухи не поют по утрам.
Только в дальнем лесочку, кукушка,
Счёт ведёт моим длинным годам…
Вера Осыка
#стихи#ностальгиядетствостихи
Хочу назад в СССР,
Где был пломбир по семь копеек,
Где были счастливы, без мер,
В стране ушанок, телогреек,
Где жили все одной семьей,
Великой ядерной державой,
И с транспорантами весной,
На демонстрациях шагали!
Хочу назад в СССР,
Где газ-вода, с двойным сиропом,
Где дед Митяй, пенсионер,
Учил нас, первым трем аккордам,
Где после школы, за углом,
Тянули «Приму» мы, по кругу,
А вездесущий управдом,
Таскал частенько нас за ухо!
Хочу назад в СССР,
И ничего, здесь нет такого,
В страну, где каждый пионер,
Гайдара знал и Михалкова,
Где рыли Беломорканал,
Там, как Стаханов завещал,
За год, давали пятилетку!
Хочу назад в СССР,
Где еще мама молодая,
Взбивает венчиком безе
И стол в гостиной накрывает,
Где вместо «Дэнди» — городки,
А вместо «Сникерса»-«Аленка»,
Где были «Танцы» до зари
И «Дон-Кихот» на книжной полке!
Хочу назад в СССР,
Туда, откуда все мы родом,
Там, где Гагарина в пример,
Все время, ставила нам школа,
Где жив Высоцкий и Шукшин,
Где над Маврикевной смеются…
Да, вообщем, мало ли причин,
Чтобы хотеть, туда вернуться!
#стихи#ностальгиядетствостихи
А помните, как это было в детстве?
Те утренники в садике… и мама
На платье из х/б-ешного обреза
Всю ночь снежинки, блестки пришивала.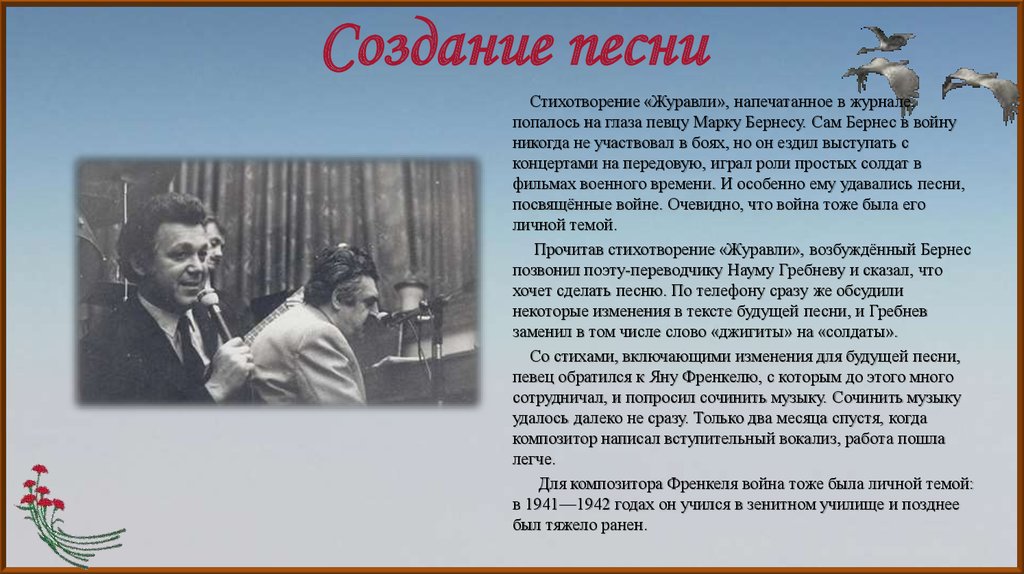
И бережно повешенный на стуле,
Наряд «снежинки» был к утру готов.
Нам в платье том казалось, мы — принцессы
Из самых-самых ярких детских снов.
И запах елки той, что ароматней нет,
В шарах стеклянных на пушистых лапах.
Звезды Советской на макушке свет,
Которую, конечно, вешал папа!
Почтовые открытки, телеграммы
От родственников дальних и не очень…
«Ирония судьбы» со всех экранов
В канун той Самой Новогодней Ночи!
И верили по-детски мы наивно,
Что Дед Мороз одарит нас подарком…
И уплетали дружно мандарины
Делили их с сестрой… а кто-то с братом!
И свет в глазах искрился неподдельно
И много лет прошло, но в сердце свято
Храним те самые счастливые мгновенья
Где молоды так были мама с папой!
#стихи#скороновыйгод#ностальгиядетствостихи
Когда нам деревья казались большими…
Мы жили беспечно, не меряли дат.
Ходили по травам ногами босыми,
А Питер тогда еще был Ленинград.
Читали про Бима и чёрное ухо,
Всплакнув не стесняясь над книгой в тиши.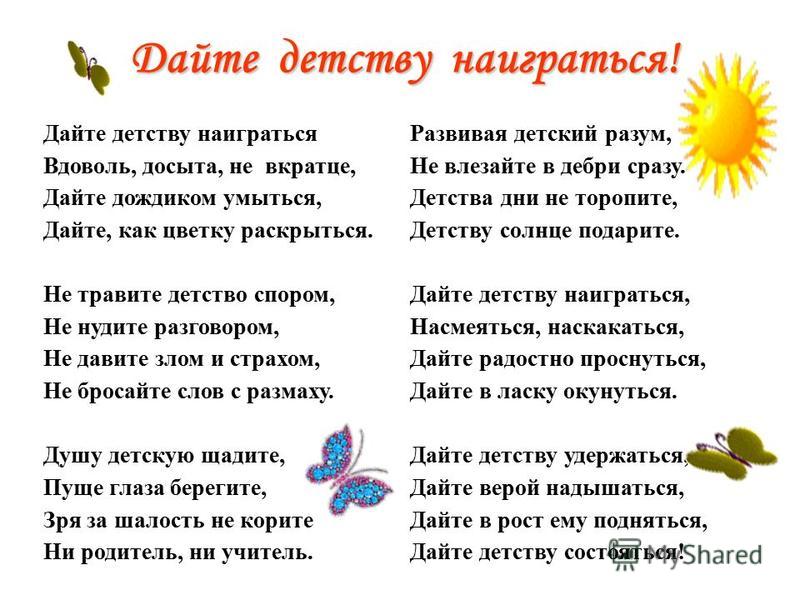
И жить было в кайф, во всём была пруха,
Друзья: Украинцы, Мордва, Латыши.
Мы мерялись силой, но так… понарошку
И дрались конечно, до первой крови.
На всех булка хлеба с печённой картошкой,
С костра, где еще головешка дымит.
Транзистор «Виола» нам пел «Арлекино»,
А мы подпевали фальшивя, не в такт.
Смотрели хоккей, где наши и финны,
Гордились от наших победных наград.
Уже не вернуть, ушло безвозвратно,
Мы жили бедней, но дружнее во всём.
Зачем этот гнев, где брат против брата?
В колодец от злости друг-другу плюём.
#дружбанародов#ностальгиядетствостихи
Они росли, как шампиньоны
на свалках старых пустырей —
хрущёвки новеньких районов
поры младенческой моей.
Плевать, что чих соседской кошки
был чётко слышен поутру,
квартиры новенькой лукошко
пленяло сразу детвору
невиданной доселе ванной,
красивым словом «туалет»,
геометрическим сервантом,
сменившим бабушкин буфет.
И вместе с нами подрастали
сирени прутик за окном,
соседних строек вертикали,
«стекляшка» — ближний гастроном.
В тени сирени и высоток,
он до сих пор меня зовёт,
мой старый дом, в чьих тесных сотах
остался детства чистый мёд.
#ностальгиядетствостихи
Дразнилки и дурацкие стишки в СССР » Музей СССР
Среди обычных считалок были у нас в детстве дурацкие коротенькие стишки, обзывалки и дразнилки. Этот детский фольклор рождался порой из ничего: случайно оброненное или неправильно сказанное ребенком слово превращалось в затейливую дразнилку. Позже стишки обрастали «хвостами», к ним добавлялись новые четверостишия, и сочиненное произведение передавалось из одного двора в другой и так шагало по стране.
Пусть некоторые считают дразнилки причинами детских конфликтов, на самом деле этот незатейливый фольклор нужен детям для выражения своих чувств и просто ради смеха. На них, кстати, редко обижались.
Есть среди дразнилок и обзывалок поименные, дразнилки для полненьких или слишком худых, для очкариков и забияк, дразнилки для рёвушек (те, кто громко плачут), модниц и вообще на все случаи жизни.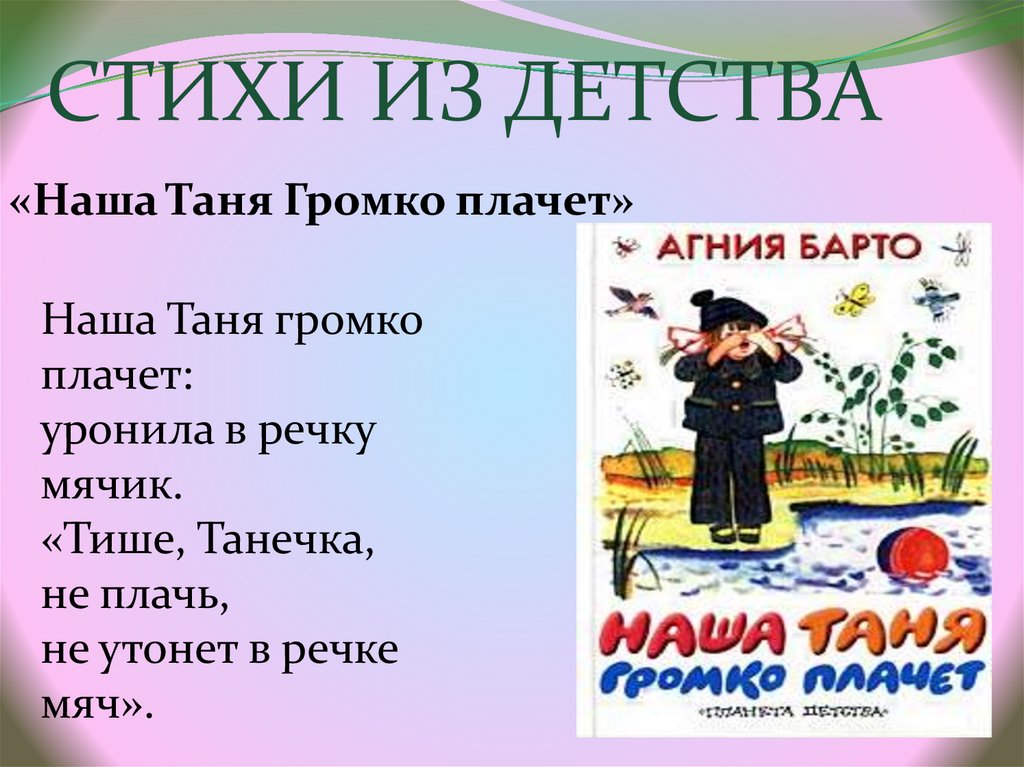
Сейчас дети стали продвинутые, все ищут в интернете, делятся в соцсетях, но сами они почти не сочиняют. Остались только стишки-насмешки у детворы в детском саду. Конечно, эти стишки кажутся нам взрослым несмешными, но в младшем возрасте мы хохотали над ними и с упоением их повторяли.
А еще дети придумывали всякие смешные переделки из знакомых песен и потом распевали их веселой компанией.
Читайте все эти дразнилки, стишки и песенки и не ругайте, если встретите что-то неудобоваримое, помните, что в незамутненных глазах детей это все понарошку.
Стишки-насмешки из детского сада
Рассказать вам сказку, как дед насрал в коляску
И поставил в уголок, чтоб никто не уволок?
Бабка думала — варенье, и намазала печенье!
Дети думали — халва, съели всё его до дна!
***
Обезьяна Чи-Чи-Чи продавала кирпичи.
Не успела все продать, улетела под кровать.
За верёвку дёрнула и немножко пёрнула.
А рабочие пришли: Чё, воняют кирпичи?
***
Тётя Мотя на работе потеряла кошелёк,
А милиция узнала — посадила на горшок.
А горшок горячий, тётя Мотя плачет.
А горшок-то тук-тук-тук, тётя Мотя — пук-пук-пук.
***
Тили-тили-тесто!
Жених и невеста!
***
Уронили Мишку на пол,
Оторвали Мишке лапу,
С корнем вырвали язык,
Наступили на кадык.
***
Мишка, Мишка, приходи!
будем целоваться!
Мамы с папой дома нет,
нечего бояться!
Почему ты не пришел?
Я штанишки не нашел.
мамины не хочется,
а папины волочатся!
(мамины широкие,
папины глубокие,
дедкины колючие,
бабкины — фу! вонючие)
Как ты мог? Ну как ты мог?
Ты мне больше не дружок!
Забирай свои игрушки!
И не писай в мой горшок!
Мама купит мне козу —
я тебе не показу!
А козу зовут Маруся,
я сама ее боюся!
Ты смеешься?
Ну и зря!
Тебя мама родила!
А меня родил папаша,
мама в отпуске была!
***
Шел крокодил, трубку курил,
Трубка упала и написала:
Шишли-мышли, сопли вышли.
***
Ёлки-палки! Дед на палке,
А бабуся на рыбалке.
Дед пошёл за молоком,
А бабуся кувырком.
Дед пришёл без молока,
А бабуся: «Ха-ха-ха!»
***
Жили были дед и баба,
Ели кашу с молоком,
Дед на бабу рассердился,
Стук по пузу кулаком,
Баба тоже не стерпела,
Деду в кашу напердела,
Дед одел противогаз,
И кричит «в квартире газ»!!!
***
Жили-были дед да баба,
Ели кашу с молоком,
Дед на бабу рассердился —
Бац по пузу кулаком!
А из пуза два арбуза
Покатились под кровать
Под кроватью пусто, вырасла капуста.
***
Дам по башке-улетишь на горшке.
Возьму за ручки-закину за тучки.
***
Я пойду на улицу,
Там поймаю курицу.
Привяжу её за хвост —
Это будет паровоз!
Я купила кошке
Новые сапожки.
Я купила ей трусы,
Причесала ей усы.
Только как их одевать? —
Хвостик некуда девать!
***
Два пупсика гуляли
В берёзовом лесу
И шляпки потеряли
В двенадцатом часу
И шел какой-то дядька
И шапки подобрал
А пупсики кричали:
Украл! Украл! Украл!
А ночью им приснился
Какой-то страшный сон:
Как будто под кроватью
Играет патефон,
А девочки танцуют
С распущенной косой,
А пупсики воруют
Сосиски с колбасой.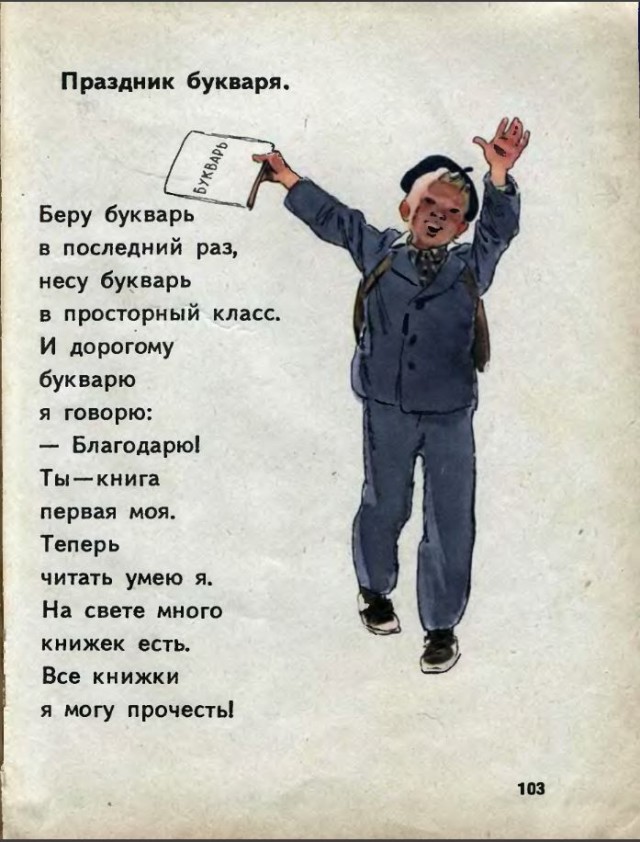
***
Я — маленькая девочка
И в школу не хожу.
Купите мне сандалики —
Я замуж выхожу!
***
Малыши карандаши
Взяли палки и пошли.
Старшие догнали,
Палки отобрали.
Малыши заплакали
И в штаны накакали.
Дайте нам бумажки-
Вытереть какашки.
Я сижу на унитазе
Громко-громко плакаю.
Почему так мало ем,
И так много какаю.
***
Мальчик с пальчик
Сел на диванчик.
Ножку поднял —
Фу! — навонял!
***
Трэнди-брэнди, балалайка,
За столом сидит хозяйка.
Трынди-брынди, колбаса.
Ах, я гордость и краса!
***
Трэнди-брэнди балалайка
Под столом сидит бабайка
А на стуле крокодил
Всю посуду проглотил
И подрыгнул в потолок
Прищемив себе пупок!
***
Сегодня воскресенье и девочкам веселье.
А мальчишкам-дуракам — толстой палкой по бокам!
***
На столе стоит стакан,
А в стакане лилия.
Что ты смотришь на меня,
Морда крокодилИя!
Дразнилки-тошнилки
Люблю я мух зеленых
И жареный глистов,
Кошачью отрыжку
И мясо мертвецов.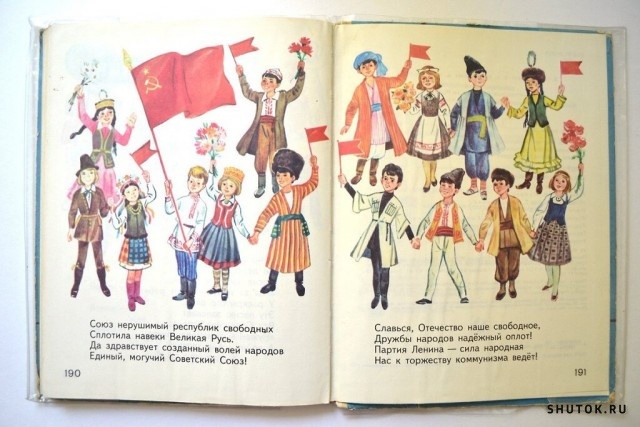
Ах какая благодать:
Кожу с мертвеца снимать,
А потом ее жевать,
Теплым гноем запивать…
***
За столом сидит гость —
В голове его гвоздь.
Это я его забил, чтобы гость не уходил.
Очень глубоко.
На столе стоит таз,
А в тазу лежит глаз.
А еще лежит нож —
Это я его принес!
Детские стихи обэриутов • Arzamas
У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.
Детская комната ArzamasМатериалыМатериалы
Arzamas для занятий со школьниками! Подборка материалов для учителей и родителей
Всё, чем можно заняться на онлайн-уроке или просто так
Мультфильмы — победители фестивалей. Часть 2
Сказки, притчи, эксперименты и абсурд
Путеводитель по Ясной Поляне
Любимая скамейка Льва Толстого, теплица, конюшня и другие места музея-усадьбы писателя, которые стоит посмотреть с детьми
Детские стихи обэриутов
Хармс, Введенский, Заболоцкий и Владимиров о котах, тиграх, рыбаках и мальчиках по имени Петя
Мигранты: как бороться за свои права с помощью музыки
Хип-хоп, карнавал, говорящие барабаны и другие неочевидные способы
Старые пластинки: сказки народов мира
Слушаем и разбираем японские, итальянские, скандинавские и русские сказки
Видео: командир МКС спрашивает ученого о космосе
Лекция на высоте 400 километров
Как снять фильм
Фильм ужасов, комедия и мелодрама в домашних условиях
Самые необычные техники анимации
VR, мультфильмы из солнечных зайчиков, киселя и специй
Поиграйте на ударных инструментах мира
Узнайте, как устроены гонг, маримба и барабан, и соберите свой оркестр
Как поставить спектакль
Театр теней, читка и другие варианты домашнего спектакля для детей
Советские ребусы
Разгадайте детские ребусы 1920–70-х годов
22 мультфильма для самых маленьких
Что смотреть, если вам нет шести
От «Дикой собаки динго» до «Тимура и его команды»
Что нужно знать о главных советских книгах для детей и подростков
Путеводитель по детской поэзии ХХ века
От Агнии Барто до Михаила Яснова: детские стихи на русском языке
10 книг художников
Страницы из кальки — миланский туман, а переплет — граница между реальностью и фантазией
Как выбрать современную детскую книжку
«Как „Пеппи“, только про любовь»: объясняем новые книги через старые
Словесные игры
«Шляпа», «телеграммы», «МПС» и другие старые и новые игры
Игры из классических книг
Во что играют герои произведений Набокова, Линдгрен и Милна
Пластилиновая анимация: российская школа
От «Пластилиновой вороны» до пластилиновой «Сосиски»
Мультфильмы — победители фестивалей
«Смелая мама», «Мой странный дедушка», «Очень одинокий петух» и другие
Нон-фикшн для детей
Как бьется сердце кита, что внутри ракеты и кто играет на диджериду — 60 книг о мире вокруг
Путеводитель по зарубежной популярной музыке
200 артистов, 20 жанров и 1000 песен, которые помогут разобраться в музыке 1950–2000-х
Мультфильмы по стихотворениям
Стихи Чуковского, Хармса, Гиппиус и Яснова в российской анимации
Домашние игры
Театр теней, поделки и бумажные куклы из детских книг и журналов XIX–XX веков
Книжки для самых маленьких
Современная литература от 0 до 5: читать, разглядывать, учиться
Кукольная анимация: российская школа
«Влюбчивая ворона», «Чертенок № 13», «Лёля и Минька» и другие старые и новые мультфильмы
Умные раскраски
Музеи и библиотеки предлагают разрисовать свои коллекции
Репринты и переиздания детских книг
Любимые сказки, повести и журналы прошлого века, которые снова можно купить
Что можно услышать в классической музыке
Шаги по льду, голос кукушки и звуки ночного леса в великих композициях XVIII–XX веков
Советские познавательные мультфильмы
Архимед, динозавры, Антарктида и космос — научно‑популярные мультфильмы в СССР
Логические задачи
Разрешите спор мудрецов, сделайте из рубашки птицу и правильно посчитайте котят
Современные детские рассказы
Лучшие короткие истории про бабушек, котов, шпионов и рыцарей
Как устроены русские колыбельные
Объясняем, чем страшен волчок и почему нельзя ложиться на краю. Бонус: 5 колыбельных группы «Наадя»
Бонус: 5 колыбельных группы «Наадя»
Музыкальные сказки
Как Чайковский, Римский-Корсаков и Прокофьев работают с сюжетами детских сказок
Армянская школа анимации
Самые бунтарские мультфильмы Советского Союза
Коллекция мультфильмов Дины Годер
Программный директор Большого фестиваля мультфильмов советует, что посмотреть с ребенком
Мультфильмы про искусство
Как рассказать детям о Пикассо, Поллоке и Татлине с помощью анимации
40 загадок обо всем на свете
Что жжет без огня и у кого в носу решето: загадки из «Чижа», «Ежа» и книг Маршака и Чуковского
Дворовые игры
«Светофор», «Штандер», «Колечко» и другие игры для большой компании
Стихи, которые интересно учить наизусть
Что выбрать, если задали выучить стихотворение про маму, Новый год или осень
Старые аудиоспектакли для детей
«Оле-Лукойе», «Серая Шейка», «Золушка» и другие интересные советские записи
Мультфильмы с классической музыкой
Как анимация работает с музыкой Чайковского, Верди и Гласса
Как устроены детские считалки
«Энэ, бэнэ, раба, квэнтэр, мантэр, жаба»: что всё это значит
К выходу поэтического сборника «ОБЭРИУ» книжного магазина «Маршак» Arzamas публикует лучшие детские стихи Хармса, Введенского, Владимирова и Заболоцкого — об играх, еде, снах и мальчиках по имени Петя
Подготовила Любовь Алейник
Детская комната
ОБЭРИУ, то есть Объединение реального искусства, существовало в Ленинграде в 1920–30-е годы.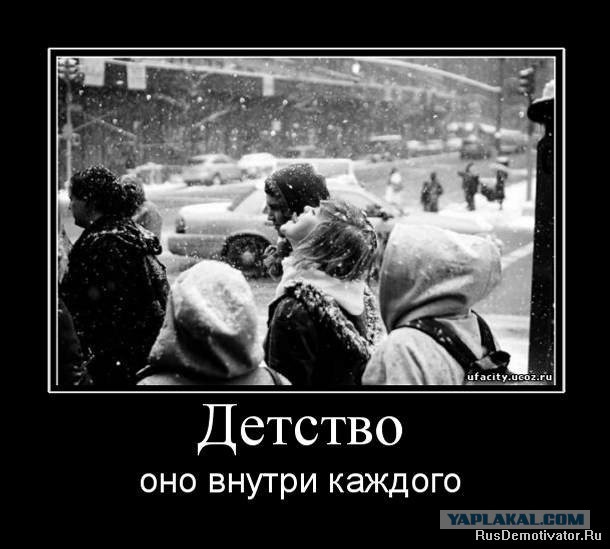 В него входили писатели и поэты, которые искали новый язык искусства, воспевали бессмыслицу и абсурд, любили играть со словом. Это Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Юрий Владимиров и Николай Олейников. Обэриуты — так они себя называли. В советской стране не очень-то любили всякие литературные эксперименты и чудачества, поэтому взрослые произведения обэриутов не печатали, и тогда почти все они стали писать для детей. Так появились веселые и страшные, бойкие и серьезные, интересные и загадочные стихи о самом важном: вкусной еде, больших числах, тайных играх, страшных снах. А еще котах и тиграх, Петях и Колях, рыбаках и рыбах, доме и дальнем пути…
В него входили писатели и поэты, которые искали новый язык искусства, воспевали бессмыслицу и абсурд, любили играть со словом. Это Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Юрий Владимиров и Николай Олейников. Обэриуты — так они себя называли. В советской стране не очень-то любили всякие литературные эксперименты и чудачества, поэтому взрослые произведения обэриутов не печатали, и тогда почти все они стали писать для детей. Так появились веселые и страшные, бойкие и серьезные, интересные и загадочные стихи о самом важном: вкусной еде, больших числах, тайных играх, страшных снах. А еще котах и тиграх, Петях и Колях, рыбаках и рыбах, доме и дальнем пути…
Даниил Хармс
Очень-очень вкусный пирог
Я захотел устроить бал,
И я гостей к себе…
Купил муку, купил творог,
Испек рассыпчатый…
Пирог, ножи и вилки тут —
Но что-то гости…
Я ждал, пока хватило сил,
Потом кусочек. ..
..
Потом подвинул стул и сел
И весь пирог в минуту…
Когда же гости подошли,
То даже крошек…
1939
Даниил Хармс
Очень страшная история
Доедая с маслом булку,
Братья шли по переулку.
Вдруг на них из закоулка
Пес большой залаял гулко.
Сказал младший: «Вот напасть,
Хочет он на нас напасть.
Чтоб в беду нам не попасть,
Псу мы бросим булку в пасть».
Все окончилось прекрасно.
Братьям сразу стало ясно,
Что на каждую прогулку
Надо брать с собою… булку.
1938
Даниил Хармс
***
Я сегодня лягу раньше,
Раньше лампу погашу,
Но зато тебя пораньше
Разбудить меня прошу.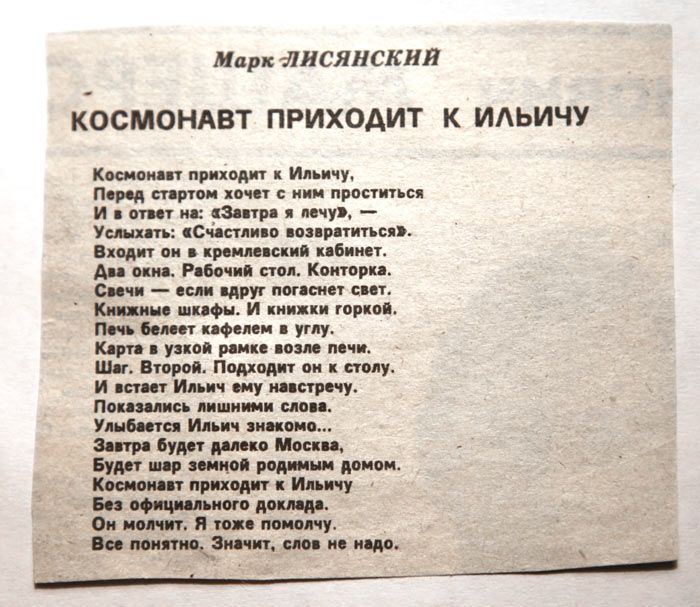
Это просто удивленье,
Как легко меня будить!
Ты поставь на стол варенье —
Я проснусь в одно мгновенье.
Я проснусь в одно мгновенье,
Чтобы чай с вареньем пить.
1937
Юрий Владимиров
Ниночкины покупки
Мама сказала Нине:
— Нина, купи в магазине:
Фунт мяса,
Бутылку кваса,
Сахарный песок,
Спичечный коробок,
Масло и компот.
Деньги — вот.
Нина сказала: — Несусь!
Бежит и твердит наизусть:
— Фунт мяса,
Бутылку кваса,
Сахарный песок,
Спичек коробок,
Масло и компот.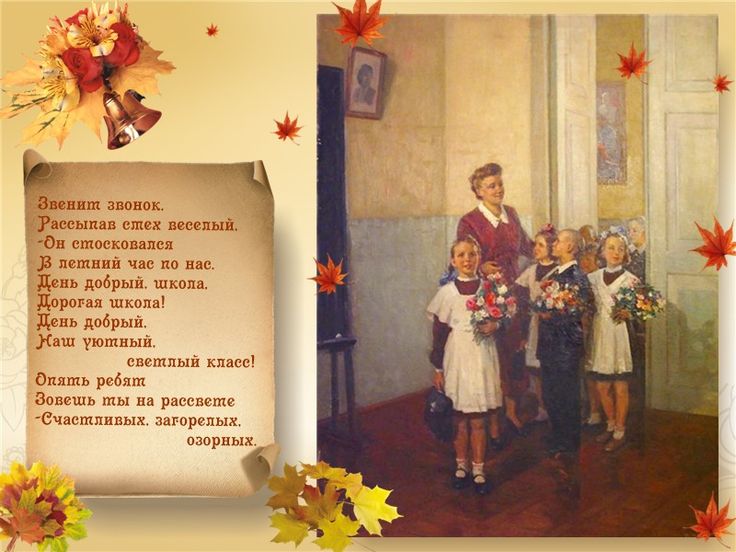
Деньги в кармане — вот.
Народу в лавке масса,
Большая очередь к кассе.
Перед Ниной — шесть человек,
А Нине нужен чек
На фунт мяса,
Бутылку кваса,
Сахарный песок,
Спичек коробок,
Масло и компот.
Деньги — вот.
Наконец очередь Нинки.
Нина твердит без запинки:
— Дайте фунт кваса,
Бутылку мяса,
Спичечный песок,
Сахарный коробок,
Масло и компот.
Деньги — вот.
Кассир говорит в ответ:
— Такого, простите, нет!
Как же вам свесить квасу,
Не влезет в бутылку мясо…
На масло и компот
Чек — вот!
А про сахарный коробок
И спичечный песок
Никогда не слыхала я лично —
Верно, товар заграничный…
1928
Даниил Хармс
Бульдог и таксик
Над косточкой сидит бульдог,
Привязанный к столбу.
Подходит таксик маленький,
С морщинками на лбу.
«Послушайте, бульдог, бульдог! —
Сказал незваный гость. —
Позвольте мне, бульдог, бульдог,
Докушать эту кость».
Рычит бульдог на таксика:
«Не дам вам ничего!» —
Бежит бульдог за таксиком,
А таксик от него.
Бегут они вокруг столба.
Как лев, бульдог рычит.
И цепь стучит вокруг столба,
Вокруг столба стучит.
Теперь бульдогу косточку
Не взять уже никак.
А таксик, взявши косточку,
Сказал бульдогу так:
«Пора мне на свидание,
Уж восемь без пяти.
Как поздно! До свидания!
Сидите на цепи!»
1939
Даниил Хармс
Тигр на улице
Я долго думал, откуда на улице взялся тигр.
Думал-думал,
Думал-думал,
Думал-думал,
Думал-думал.
В это время ветер дунул,
И я забыл, о чем я думал.
Так я и не знаю, откуда на улице взялся тигр.
1936
Даниил Хармс
Лиса и петух
Лиса поймала петуха
И посадила в клетку.
— Я откормлю вас,
Ха-ха-ха!
И съем вас
Как конфетку.
Ушла лисица,
Но в замок
Забыла сунуть ветку.
Петух
Скорей
Из клетки
Скок!
И спрятался
За клетку.
Не видя в клетке петуха,
Лисица влезла в клетку.
Петух же крикнул:
— Ха-ха-ха!
И запер дверь на ветку.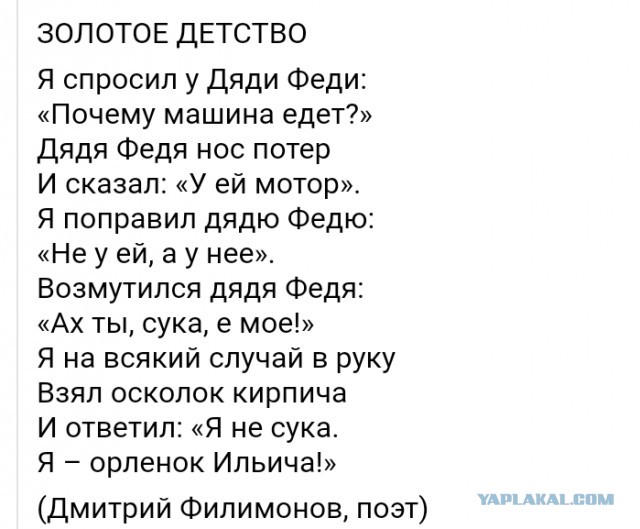
1941
Александр Введенский
Лошадка
Жила-была лошадка,
Жила-была лошадка,
Жила-была лошадка,
А у лошадки хвост,
Коричневые ушки,
Коричневые ножки.
Вот вышли две старушки,
Похлопали в ладошки,
Похлопали в ладошки,
Закладывали дрожки,
Закладывали дрожки
И мчались по дорожке.
Бежит, бежит лошадка
По улице, по гладкой.
Вдруг перед нею столбик,
На столбике плакат:
«Строжайше воспрещается
По улице проход.
На днях предполагается
Чинить водопровод».
Лошадка увидала,
Подумала и встала
И дальше не бежит,
Стоит и не бежит.
Старушки рассердились,
Старушки говорят:
«Мы что ж остановились?» —
Старушки говорят.
Лошадка повернулась,
Тележка подскочила,
Старушка посмотрела,
Подружке говорит:
«Вот это так лошадка,
Прекрасная лошадка,
Она читать умеет
Плакаты на столбах».
Лошадку похвалили,
Купили ей сухарь,
А после подарили
Тетрадку и букварь.
1929
Николай Заболоцкий
Как мыши с котом воевали
Жил-был кот,
Ростом он был с комод,
Усищи — с аршин,
Глазищи — с кувшин,
Хвост трубой,
Сам рябой.
Ай да кот!
Пришел тот кот
К нам в огород,
Залез кот на лукошко,
С лукошка прыгнул в окошко,
Углы в кухне обнюхал,
Хвостом по полу постукал.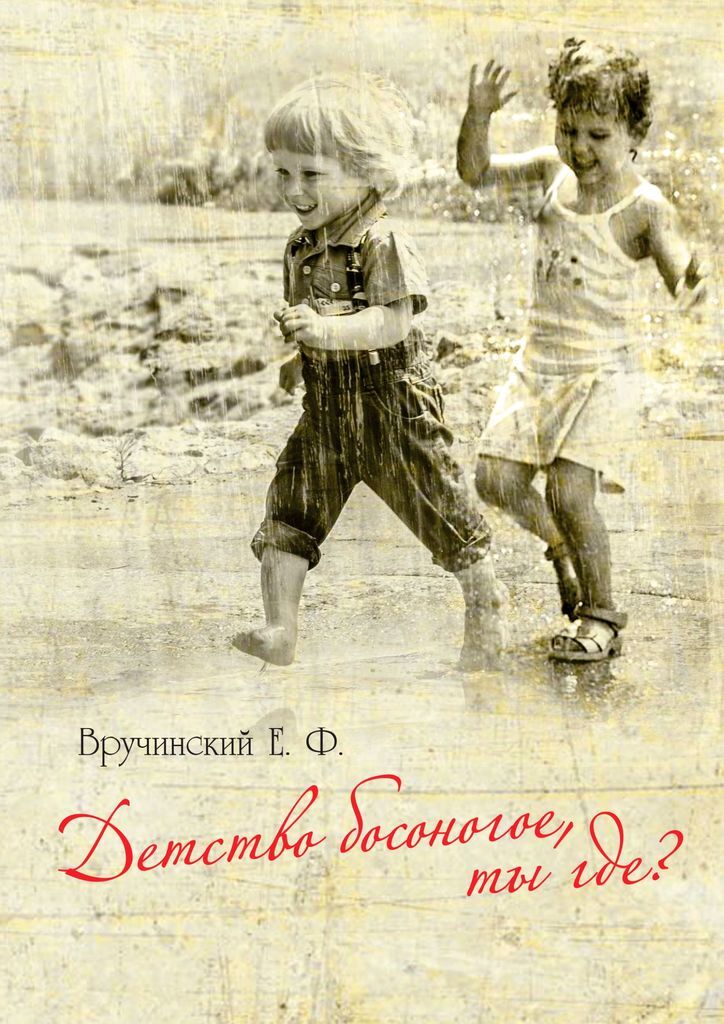
— Эге,— говорит,— пахнет мышами!
Поживу-ка я недельку с вами!
Испугались в подполье мыши —
От страха чуть дышат.
— Братцы,— говорят, — что же это такое?
Не будет теперь нам покоя.
Не пролезть нам теперь к пирогу,
Не пробраться теперь к творогу,
Не отведать теперь нам каши,
Пропали головушки наши!
А котище лежит на печке,
Глазищи горят, как свечки.
Лапками брюхо поглаживает,
На кошачьем языке приговаривает:
— Здешние, — говорит, — мышата
Вкуснее, — говорит, — шоколада,
Поймать бы их мне штук двести —
Так бы и съел всех вместе!
А мыши в мышиной норке
Доели последние корки,
Построились в два ряда
И пошли войной на кота.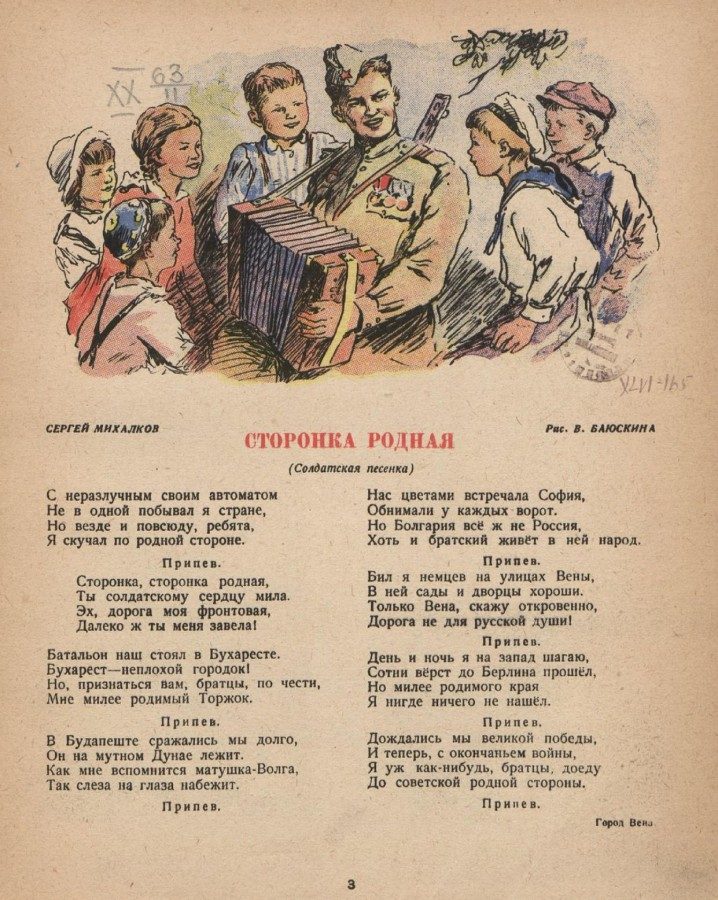
Впереди генерал Культяпка,
На Культяпке — железная шляпка,
За Культяпкой — серый Тушканчик,
Барабанит Тушканчик в барабанчик,
За Тушканчиком — целый отряд —
Сто пятнадцать мышиных солдат.
Бум! Бум! Бум! Бум!
Что за гром? Что за шум?
Берегись, усатый кот,
Видишь — армия идет,
Видишь — армия идет,
Громко песенку поет.
Вот Культяпка боевой
Показался в кладовой.
Барабанчики гремят,
Громко пушечки палят,
Громко пушечки палят,
Только ядрышки летят!
Прибежали на кухню мыши,
Смотрят — а кот не дышит,
Глаза у кота закатились.
Уши у кота опустились,
Что случилось с котом?
Собрались мыши кругом, —
Глядят на кота, глазеют,
А тронуть кота не смеют.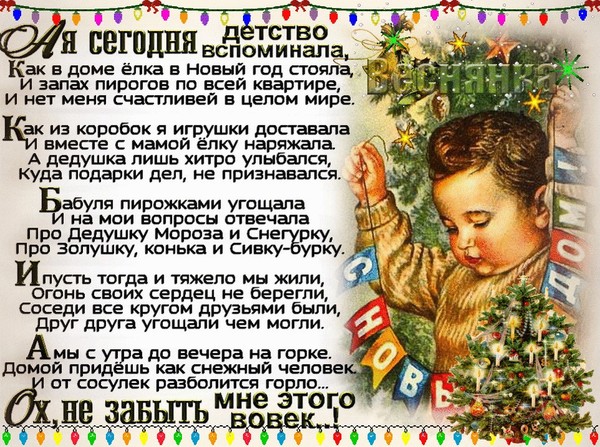
Но Культяпка был не трус —
Потянул кота за ус, —
Лежит котище — не шелохнется,
С боку на бок не повернется.
Окочурился, разбойник, окочурился,
Накатил на кота карачун, карачун!
Тут пошло у мышей веселье,
Закружились они каруселью,
Забрались котищу на брюхо,
Барабанят ему прямо в ухо,
Все танцуют, скачут, хохочут…
А котище-то как подскочит,
Да как цапнет Культяпку
зубами —
И пошел воевать с мышами!
Вот какой он был, котище,
хитрый!
Вот какой он был, котище,
умный!
Всех мышей он обманул,
Всех он крыс переловил.
Не лазайте, мыши, по полочкам,
Не воруйте, крысы, сухарики.
Не скребитесь под полом, под лестницей,
Не мешайте Никитушке спать-почивать!
1933
Даниил Хармс
Неожиданный улов
Сын сказал отцу: — Отец,
Что же это наконец?
Шесть часов мы удим, удим,
Не поймали ничего.
Лучше так сидеть не будем
Неизвестно для чего.
— Замолчишь ты наконец! —
Крикнул с яростью отец.
Он вскочил, взглянул на небо…
Сердце так и ухнуло!
И мгновенно что-то с неба
В воду с криком бухнуло.
Сын, при помощи отца,
Тащит на берег пловца,
А за ним на берег рыбы
Так и лезут без конца!
Сын доволен. Рад отец.
Вот и повести конец.
1941
Александр Введенский
О рыбаке и судаке
По реке плывет челнок,
На корме сидит рыбак,
На носу сидит щенок,
В речке плавает судак.
Речка медленно течет,
С неба солнышко печет.
А на правом берегу
Распевает петушок,
А на левом берегу
Гонит стадо пастушок.
Громко дудочка звучит,
Ходит стадо и мычит.
Дернул удочку рыбак,
На крючке сидит червяк.
Рыбы нету на крючке,
Рыба плавает в реке.
«То ли, — думает рыбак, —
Плох крючок и плох червяк,
То ли тот судак — чудак», —
Вот что думает рыбак.
А быть может, нет улова
Оттого, что шум кругом,
Что, мыча, идут коровы
За веселым пастухом.
Что прилежно распевает
Голосистый петушок,
Что визжит и подвывает
Глупый маленький щенок.
Всем известно
Повсеместно —
Вам, ему, тебе и мне:
Рыба ловится чудесно
Только в полной тишине.
Вот рыбак сидел, сидел
И на удочку глядел,
Вот рыбак терпел, терпел,
Не стерпел и сам запел.
По реке плывет челнок,
На корме поет рыбак,
На носу поет щенок,
Песню слушает судак.
Слышит дудочки звучанье,
Слышит пенье петушка,
Стадо громкое мычанье
И плесканье челнока.
И завидует он всем:
Он, судак, как рыба нем.
1940
Александр Введенский
Рыбак
На мосту рыбак сидел
И на речку не глядел,
Не глядел на удочку,
А играл на дудочке.
Ветром тихо дунуло,
Он подумал: клюнуло!
Рыболов, рыболов
Не велик твой улов:
Старая подметка
И сломанная щетка.
1929
Александр Введенский
Рыбак
Плывет на лодочке рыбак
И песенку поет.
Хотя и отсырел табак, —
Он трубочку набьет.
Немало поработал он, —
Велик, богат улов,
Звезда взошла на небосклон,
Блестит из облаков.
А ночь тепла, светла, тиха,
Луны приятен свет.
И будет славная уха
Назавтра на обед.
1940
Александр Введенский
Рыбаки
Вот дело какое случилось у нас
В рыбацкой простой деревушке:
Идут рыбаки в предутренний час,
А ветер деревьев качает верхушки.
Идут рыбаки, и мальчик спешит,
Собака бежит и лает.
Собака бежит, собака визжит,
Собака в море желает.
К спокойному морю они подошли
И лодку в море столкнули,
Поставили руль и сеть принесли,
И парус вдвоем натянули.
Вот мальчик садится, и три рыбака
С собакою в лодку садятся,
Один на корму, на руль рука,
И вот пора отправляться.
По тихому морю поплыли они,
Суровый парус натянут.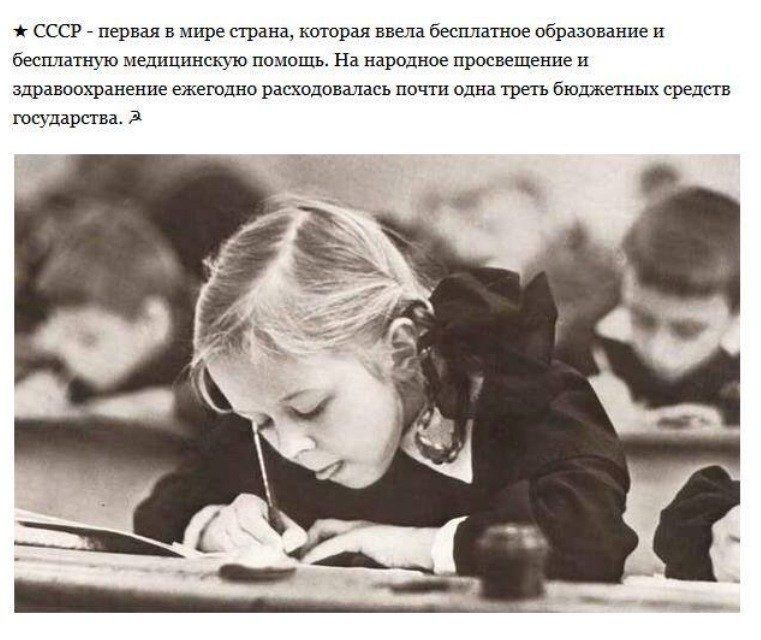
В широком море они одни —
Ловить они рыбу станут.
Медузы плывут глубоко под водой,
Дельфины веселые скачут,
Играет волны гребешок завитой,
И все предвещает удачу.
Вдруг туча на солнечном небе встает,
И ветер с волнами ссорится.
Скорее, скорее, вот буря идет,
И солнце за тучей скроется!
Скорей, рыбаки, отправляйтесь домой,
Скорее, а то опоздаете,
Все небо покрыто холодною тьмой,
Чего вы еще ожидаете?
Грозное море шумит и гудит,
Волны на лодку бросаются,
Ветер свирепый над морем летит,
И паруса обрываются.
Волны идут, волны ревут,
Брызги над морем несутся,
А рыбаки, надрываясь, гребут.
Храбрые, с бурею бьются.
Буря крепчает, поднялся шквал,
Сопротивление слабо,
Страшный приходит девятый вал,
Валится лодка на бок.
В воду упали три рыбака,
Мальчик с собакой свалились,
Чья-то за борт ухватилась рука,
Двое за руль уцепились.
— Эй! помогите, тонем, тону! —
Собака от страха скулила,
Мальчик собаку к себе притянул,
А буря ревела и выла.
А старый рыбак выбивался из сил,
Кричал: «Рыбаки, не сдавайся!»
А ветер шумел, и дождь моросил,
И хочешь не хочешь, купайся.
В деревне волнуются, ждут рыбаков,
В деревне тоска и тревога,
И вот вызываются пять смельчаков,
И вот готова подмога.
И смело сквозь бурю плывут моряки
В широкое, грозное море,
Где с бурею бьются на смерть рыбаки,
С высокими волнами споря.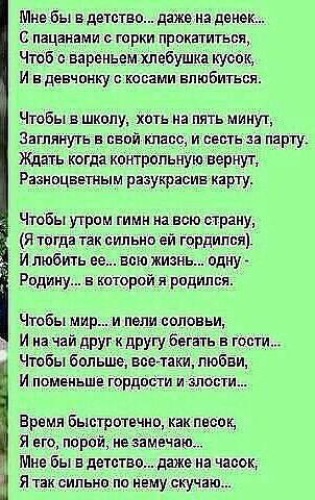
Но вот им бросают веревку, канат,
Бросают спасательный пояс,
И мальчик спасен, и три рыбака.
Собака лежит успокоясь.
Луна встает и бросает лучи,
И тучи на запад ползут.
И темное море устало молчит,
И волны лениво встают.
А в это время на берегу
Толпятся жены и дети,
Одни собаки дома стерегут,
И дует холодный ветер.
Пусть ветер дует, мы подождем,
Они подплывают, им отдых нужен,
Понуро идут под диким дождем,
А дома ждет их горячий ужин.
Полный опасности — вот он каков,
Суровый труд рыбаков.
1929
Даниил Хармс
Га-ра-рар!
Бегал Петька по дороге,
по дороге,
по панели,
бегал Петька
по панели
и кричал он:
— Га-ра-рар!
Я теперь уже не Петька,
разойдитесь!
разойдитесь!
Я теперь уже не Петька,
я теперь автомобиль.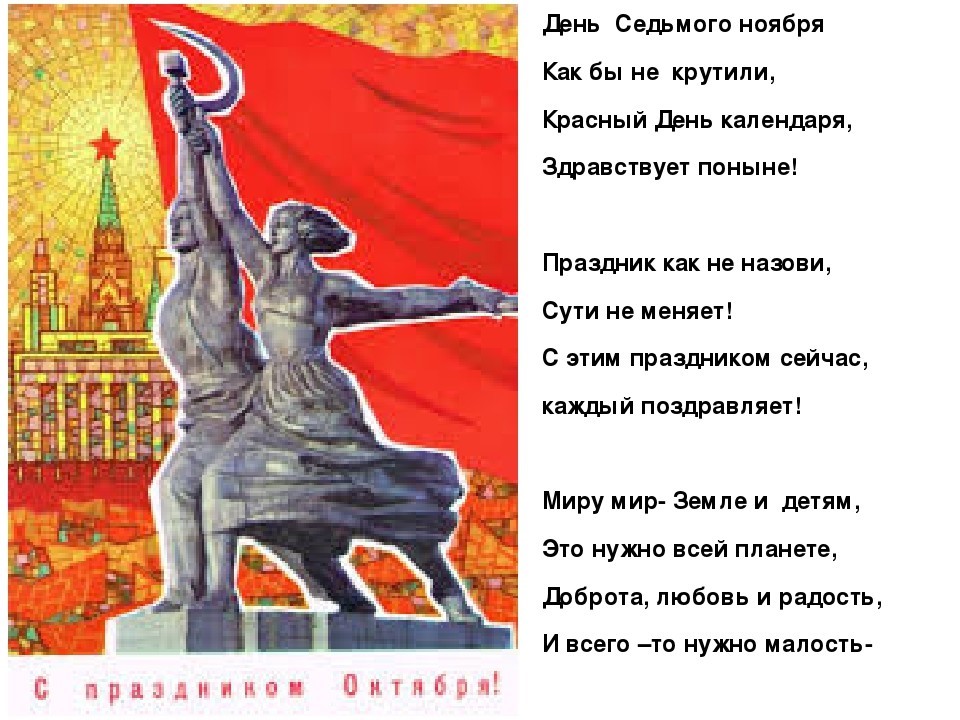
А за Петькой бегал Васька
по дороге,
по панели,
бегал Васька
по панели
и кричал он:
— Ду-ду-ду!
Я теперь уже не Васька,
сторонитесь!
сторонитесь!
Я теперь уже не Васька,
я почтовый пароход!
А за Васькой бегал Мишка
по дороге,
по панели,
бегал Мишка
по панели
и кричал он:
— Жу-жу-жу!
Я теперь уже не Мишка,
берегитесь!
берегитесь!
Я теперь уже не Мишка,
я советский самолет.
Шла корова по дороге,
по дороге,
по панели,
шла корова
по панели
и мычала:
— Му-му-му!
Настоящая корова,
с настоящими
рогами,
шла навстречу по дороге,
всю дорогу заняла.
— Эй, корова,
ты, корова,
не ходи сюда, корова,
не ходи ты по дороге,
не ходи ты по пути.
— Берегитесь! — крикнул Мишка.
— Сторонитесь! — крикнул Васька.
— Разойдитесь! — крикнул Петька,
и корова отошла.
Добежали,
добежали
до скамейки
у ворот
пароход
с автомобилем
и советский
самолет,
самолет
с автомобилем
и почтовый
пароход.
Петька прыгнул на скамейку,
Васька прыгнул на скамейку,
Мишка прыгнул на скамейку,
на скамейку у ворот.
— Я приехал! — крикнул Петька.
— Стал на якорь! — крикнул Васька.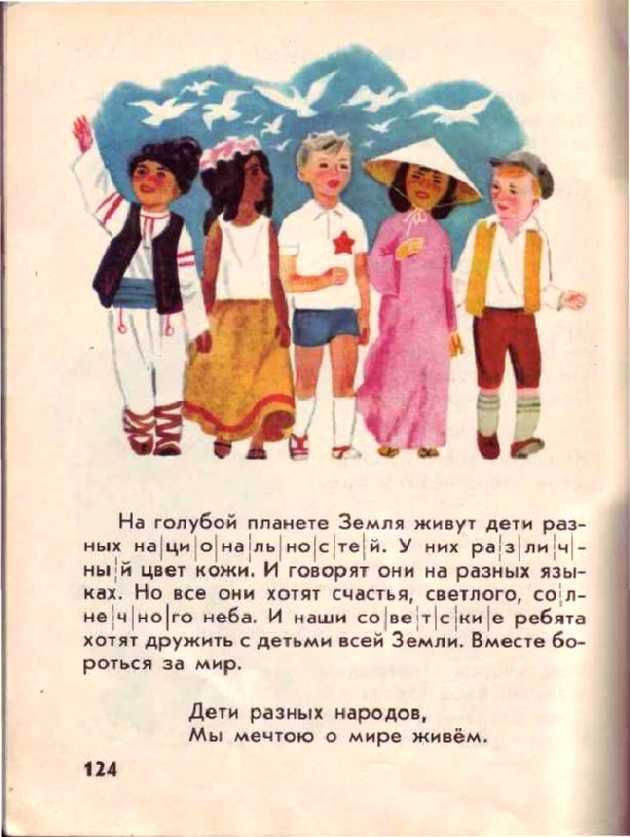
— Сел на землю! — крикнул Мишка,
и уселись отдохнуть.
Посидели,
посидели
на скамейке
у ворот
самолет
с автомобилем
и почтовый
пароход,
пароход
с автомобилем
и советский
самолет.
— Кроем дальше! — крикнул Петька.
— Поплывем! — ответил Васька.
— Полетим! — воскликнул Мишка,
и поехали опять.
И поехали машины
по дороге,
по панели,
только пятками сверкали
и кричали:
— Жу-жу-жу!
Только пятками сверкали
по дороге,
по панели,
только ручками махали
и кричали:
— Ду-ду-ду!
Только ручками махали
на дороге,
на панели,
только шапками кидали
и кричали:
— Га-ра-рар!
1929
Даниил Хармс
Игра
Пуговка, веревочка,
Палочка-выручалочка!
Пряткой будет Женька!
Прячься хорошенько!
Где мы все и сколько нас,
Долго нам рассказывать.
Только очень просим вас
Женьке не подсказывать.
1938
Александр Введенский
***
Встав сегодня
Поутру,
Я воздушный
Змей
Беру.
В поле с песней
Выбегаю,
Змей по ветру
Запускаю.
Выше
Крыши,
Выше леса,
Над землею
Змей взлетел.
И над синею рекою
Змей
От ветра загудел.
Разноцветными боками
Засверкал под облаками
Змей, змей,
Мчись быстрей!
Испугался
Воробей,
Струсила синица:
Это что за птица?
Слушай, ты
Большая туча!
Догони, его —
Сумей!
Мой веселый
И летучий,
Мой воздушный
Змей!
1933
Александр Введенский
Володя Ермаков
Стали пятеро ребят,
стали рядом, говорят:
— На лугу стоит береза
и листочками дрожит.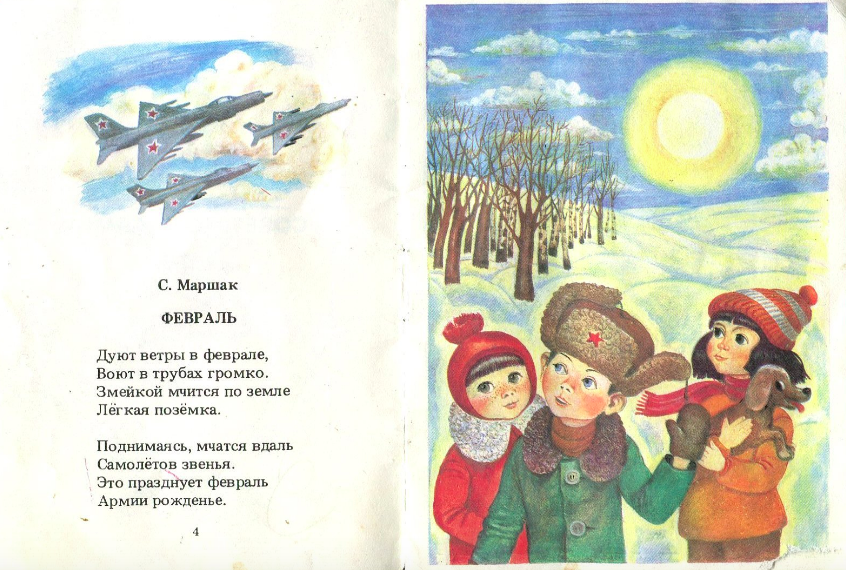
Кто быстрее паровоза
до березы добежит?
Я — нет!
Я — нет!
Я — нет!
Я — нет!
А Володя Ермаков
говорит: — Я готов.
Вижу я, стоит береза
на лугу.
Я быстрее паровоза
добегу.
Пролетели три минуты —
раз, два, три!
У березы наш Володя —
посмотри!
Стали пятеро ребят,
стали рядом, говорят:
— Глубоки речные воды,
из воды скала встает.
Кто скорее парохода
до скалы той доплывет?
Я — нет!
Я — нет!
Я — нет!
Я — нет!
А Володя Ермаков
говорит: — Я готов.
Вижу я речные воды
и скалу.
Я скорее парохода
доплыву.
Пролетели три минуты —
раз, два, три!
До скалы доплыл Володя —
посмотри!
Стали пятеро ребят,
стали рядом, говорят:
— За забором есть дорожка,
и ведет дорожка в бор.
Кто же, ловко, словно кошка,
перепрыгнет тот забор.
Я — нет!
Я — нет!
Я — нет!
Я — нет!
А Володя Ермаков
говорит: — Я готов.
Вижу, вижу я дорожку,
вижу бор.
Перепрыгну я, как кошка,
тот забор.
Пролетели три секунды —
раз, два, три!
За забором стал Володя —
посмотри!
Замечательный бегун —
Ермаков.
Замечательный прыгун —
Ермаков.
Удивительный пловец —
Ермаков.
Физкультурник-молодец —
Ермаков.
1935
Юрий Владимиров
Оркестр
Папа и мама ушли к дяде Косте.
У Саши и Вали — гости.
И придумали Саша с сестрою:
— Давайте оркестр устроим!
И устроили:
Валя — на рояле,
Юля — на кастрюле,
Лешка — на ложках,
Саша — на трубе, —
Представляете себе?
Кошка — в окошко,
Кот — под комод,
Дог — со всех ног
на порог
и на улицу.
И по всем по этажам —
Страшный шум, страшный гам.
Кричат во втором:
— Рушится дом!
Провалился этаж!—
Схватили саквояж,
Лампу, сервиз —
И вниз!
А в первом говорят:
— Без сомнения —
Наводнение! —
Захватили сундуки —
И на чердаки!
А на улице, где дом,
Разгром:
Очень страшно, очень жутко,
Своротила лошадь будку.
Страшный шум, страшный крик, —
В лавку въехал грузовик…
Прибегает управдом:
— Почему такой содом?!
Где пожар, где обвал? —
И оркестр увидал:
Валя — на рояле,
Юля — на кастрюле,
Лешка — на ложках,
Саша — на трубе, —
Представляете себе?
А дворник дал
Пожарный сигнал,
И по этому сигналу
Часть тотчас же прискакала:
— Что горит? Где горит? —
Управдом говорит:
— Hет пожара здесь, поверьте,
Все несчастье тут — в концерте.
Папа и мама на улице Лассаля
и то — услыхали!
«Что за шум, что за гром?
Ах, несчастье дома!»
Побежали так, что папа
Потерял платок и шляпу.
Папа с мамой прибегают,
Папе дети говорят:
— Тише, — здесь оркестр играет!
Hу-ка вместе, дружно в лад:
Валя — на рояле,
Юля — на кастрюле,
Лешка — на ложках,
Саша — на трубе, —
Представляете себе?
1929
Николай Заболоцкий
На реке
Вот посмотрите-ка,
какое представленье!
Каждый удивляется,
кто близко подойдет!
Двадцать три разбойника
в это воскресенье
сделали на речку
разбойничий налет.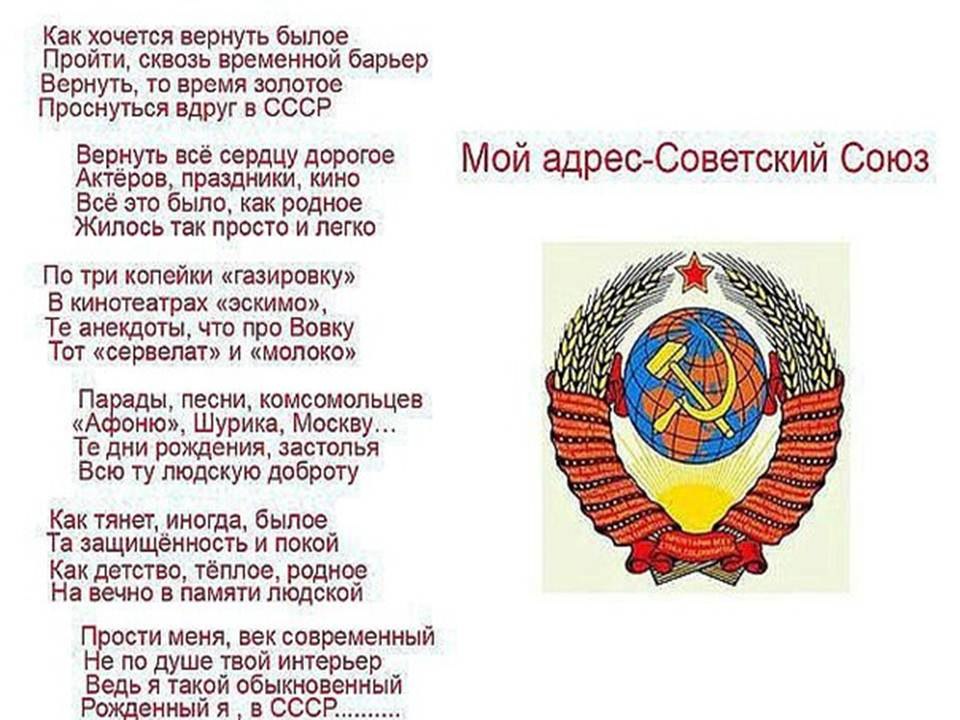
Атаман Ванюшка
с Николашкой вместе
в лодку залезли,
поехали на юг.
Только отъехали,
а лодка ни с места:
ребята прицепились,
ехать не дают.
Батюшки! Матушки!
Громче паровоза
воет какой-то
ужасный зверь!
Это Парамошка
выкупал Барбоса:
— Будешь ты, Барбоска,
чистенький теперь.
Разбойники на солнышке
лежат — загорают,
разбойники по мячику
ладошками бьют,
а солнечные зайчики
на мячике играют,
и белые кораблики
по речке плывут!
1930
Николай Заболоцкий
Чехарда
«Миша Свечкин,
Стась Овечкин,
Вова Драбкин,
Шура Бабкин,
Все сюда!
Чехарда!»
Через головы и кепки,
Через десять крепких тел
Миша Свечкин, толстый, крепкий,
Словно бомба полетел.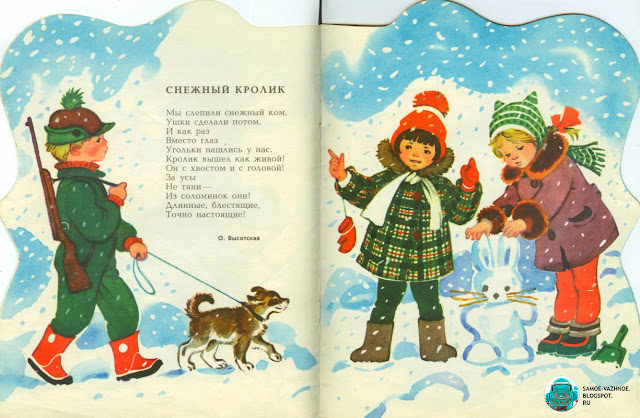
Словно бомба полетел,
Стась в крапиву отлетел,
Вова Драбкин растянулся,
Шура перекувырнулся,
И сразмаха носом хлоп!
Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!
«Стой, ребята, подожди!
Кто там скачет впереди?
Если прыгаешь, то прыгай,
Пяткой в воздухе не дрыгай,
Подскочил и пролетай,
Локтем в спину не толкай.
Если встал, так не качайся,
Крепко в ногу упирайся,
Ниже голову нагни,
Плечи выше подними,
Ноги шире расставляй.
Ну, Овечкин, начинай!»
Разбежался Стась Овечкин —
Растянулся Миша Свечкин,
Вова мокрый стал как мышка,
На щеке у Шуры шишка,
В синяках у Стася лоб…
Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!
«Стой, ребята, в самом деле,
Что вы нынче? Обалдели?
Это разве чехарда?
Не игра, а ерунда!
Кто не знает физкультуры,
Тот и скачет как мешок.
Покажи ребятам, Шура,
Что такое наш прыжок».
Прыгнул Шура через Мишу,
Отвечает Миша: «Вижу!»
Прыгнул Шура через Вовку,
Отвечает Вовка: «Ловко!»
«Понимаем, понимаем,
Понимаем, как скакать!
Ну-ка, снова начинаем!
Нынче Вовке начинать!»
Разбежался Вова Драбкин —
«Раз!»
«Ага», — ответил Бабкин.
«Два!»
«Сошло», — ответил Свечкин.
«Три!»
«Вполне», — сказал Овечкин.
Тут все цугом,
Друг за другом
По тропинке,
Через спинки,
Через головы ребят
Все как мячики летят,
Все как мячики летят —
Десять мальчиков подряд.
Здравствуй, здравствуй физкультура,
Здравствуй, первый наш урок!
Запиши-ка, Бабкин Шура,
В физкультурный нас кружок!
1933
Даниил Хармс
Миллион
Шел по улице отряд,
сорок мальчиков подряд:
раз,
два,
три,
четыре,
и четыре
на четыре,
и четырежды
четыре,
и еще потом четыре.
В переулке шел отряд:
сорок девочек подряд.
Раз, два, три, четыре,
и четыре на четыре,
и четырежды четыре,
и еще потом четыре.
Да как встретилися вдруг
стало восемьдесят вдруг!
Раз,
два,
три,
четыре,
и четыре
на четыре,
на четырнадцать
четыре,
и еще потом четыре.
А на площадь
повернули,
а на площади
стоит
не компания,
не рота,
не толпа,
не батальон,
и не сорок,
и не сотня,
а почти что
МИЛЛИОН!
Раз, два, три, четыре,
и четыре
на четыре,
сто четыре
на четыре,
полтораста
на четыре,
двести тысяч
на четыре!
и еще потом четыре!
Всё.
1931
Даниил Хармс
Цирк Принтинпрам
Невероятное представление.
Новая программа
Сто коров,
Двести бобров,
Четыреста двадцать
Ученых комаров
Покажут сорок
Удивительных
Номеров.
Четыре тысячи петухов
И четыре тысячи индюков
Разом
Выскочат
Из четырех сундуков.
Две свиньи
Спляшут польку.
Клоун Петька
Ударит клоуна Кольку.
Клоун Колька
Ударит клоуна Петьку.
Ученый попугай
Съест моченую
Редьку.
Четыре тигра
Подерутся с четырьмя львами.
Выйдет Иван Кузмич
С пятью головами.
Силач Хохлов
Поднимет зубами слона.
Потухнут лампы
Вспыхнет луна.
Загорятся под куполом
Электрические звезды.
Ученые ласточки
Совьют золотые гнезда.
Грянет музыка,
И цирк закачается…
На этом, друзья,
Представление
наше
кончается.
1941
Даниил Хармс
***
Девять
Картин
Нарисовано
Тут.
Мы разглядели их
В девять
Минут.
Но если б
Их было
Не девять,
А больше,
То мы
И глядели
На них бы
Подольше.
1941
Даниил Хармс
Веселые чижи
Песня
Посвящается 6-му Ленинградскому детдому
Жили в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре веселых
чижа:
Чиж — судомойка,
Чиж — поломойка,
Чиж — огородник,
Чиж — водовоз,
Чиж — за кухарку,
Чиж — за хозяйку,
Чиж — на посылках,
Чиж — трубочист.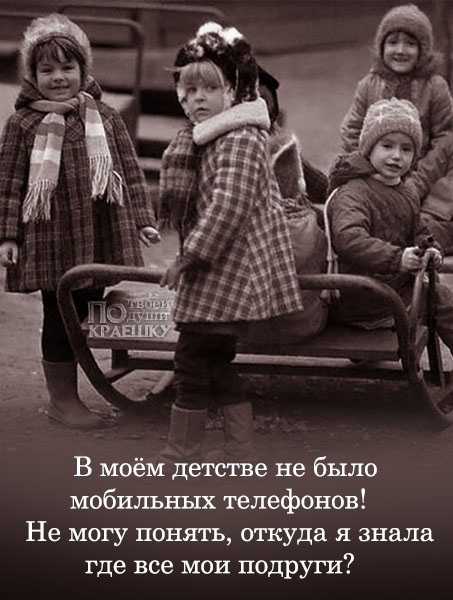
Печку топили,
Кашу варили
Сорок четыре веселых
чижа:
Чиж — с поварешкой,
Чиж — с кочережкой,
Чиж — с коромыслом,
Чиж — с решетом,
Чиж накрывает,
Чиж созывает,
Чиж разливает,
Чиж раздает.
Кончив работу,
Шли на охоту
Сорок четыре веселых
чижа:
Чиж — на медведя,
Чиж — на лисицу,
Чиж — на тетерку,
Чиж — на ежа,
Чиж — на индюшку,
Чиж — на кукушку,
Чиж — на лягушку,
Чиж — на ужа.
После охоты
Брались за ноты
Сорок четыре веселых
чижа.
Дружно играли:
Чиж — на рояли,
Чиж — на цимбале,
Чиж — на трубе,
Чиж — на тромбоне,
Чиж — на гармони,
Чиж — на гребенке,
Чиж — на губе!
Ездили всем домом
К зябликам знакомым
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж — на трамвае,
Чиж — на моторе,
Чиж — на телеге,
Чиж — на возу,
Чиж — в таратайке,
Чиж — на запятках,
Чиж — на оглобле,
Чиж — на дуге!
Спать захотели,
Стелют постели
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж — на кровати,
Чиж — на диване,
Чиж — на корзине,
Чиж — на скамье,
Чиж — на коробке,
Чиж — на катушке,
Чиж — на бумажке,
Чиж — на полу.
Лежа в постели,
Дружно свистели
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж: трити-тити,
Чиж: тирли-тирли,
Чиж: дили-дили,
Чиж: ти-ти-ти,
Чиж: тики-тики,
Чиж: тики-рики,
Чиж: тюти-люти,
Чиж: тю-тю-тю!
1930
Александр Введенский
***
Триста семьдесят ребят,
Темных, светлых или рыжих,
На санях с горы летят,
Быстро катятся на лыжах.
Если б вы мне дали лыжи,
Дали санки мне, друзья,
Всех бы темных, светлых, рыжих
Обогнал сегодня я.
Жаль, что занят я опять —
Надо мне стихи писать.
1934
Александр Введенский
Умный Петя
Вот сидит пред вами Петя,
Он умнее всех на свете.
Все он знает,
Понимает,
Все другим он объясняет.
Подходили дети к Пете,
Говорили с Петей дети:
— Петя, Петя. Ты ученый —
Говорят они ему:
— Облетает лист зеленый,
Объясни нам, почему?
И ответил
Петя:
— Дети!
Хорошо,
Я объясню.
Лист зеленый облетает
По траве сухой шуршит,
Потому что он плохими
К ветке нитками пришит.
Услыхали это дети
И сказали:
— Что ты, Петя,
Неужели
В самом деле,
В самом деле
Это так?
И опять сказали дети:
— Если ты все знаешь, Петя,
Если ты умнее всех,—
Расскажи-ка нам про снег.
Не поймем — зачем зимою
Снег на улице валит,
И над белою землею
Больше зяблик не летит?
И ответил
Петя:
— Дети!
Ладно, ладно,
Расскажу.
Знаю очень хорошо:
Снег — зубной порошок,
Но особый, интересный,
Не земной, а небесный.
Зяблик больше не летает,
Как известно оттого:
Крылья к туче примерзают,
Примерзают у него.
Услыхали это дети,
Удивились:
— Что ты, Петя,
Неужели
В самом деле,
В самом деле
Оттого?
И тогда сказали дети:
— Хороши ответы эти,
Но ответить на вопросы,
Мы еще тебя попросим:
Видишь, стали дни короче,
И длиннее стали ночи?
Почему, ответь потом,
Вся река покрылась льдом?
И ответил
Петя:
— Дети!
Так и быть уж,
Объясню.
Рыбы в речке строят дом,
Для своих детишек
И покрыли речку льдом —
Он им вроде крыши.
Оттого длиннее ночи,
Оттого короче дни,
Что мы рано стали очень
Зажигать в домах огни.
Услыхали это дети,
Засмеялись:
— Что ты, Петя,
Неужели
В самом деле,
В самом деле
Оттого?
Как вы думаете, дети:
А не врет ли этот Петя?
1932
Даниил Хармс
***
Жил на свете
Мальчик Петя,
Мальчик Петя
Пинчиков.
И сказал он:
— Тетя, тетя,
Дайте, тетя,
Блинчиков.
Но сказала
Тетя Пете:
— Петя, Петя
Пинчиков!
Не люблю я,
Когда дети
Очень клянчут
Блинчиков.
<1930-е>
Александр Введенский
Кто?
Дядя Боря говорит,
Что
Оттого он так сердит,
Что
Кто-то на пол уронил
Банку, полную чернил,
И оставил на столе
Деревянный пистолет,
Жестяную дудочку
И складную удочку.
Может, это серый кот
Виноват?
Или это черный пес
Виноват?
Или это курицы
Залетели с улицы?
Или толстый, как сундук,
Приходил сюда индюк,
Банку, полную чернил,
В кабинете уронил
И оставил на столе
Деревянный пистолет,
Жестяную дудочку
И складную удочку?
Тетя Варя говорит,
Что
Оттого она ворчит,
Что
Кто-то сбросил со стола
Три тарелки, два котла
И в кастрюлю с молоком
Кинул клещи с молотком.
Может, это серый кот
Виноват?
Или это черный пес
Виноват?
Или это курицы
Залетели с улицы?
Или толстый, как сундук,
Приходил сюда индюк,
Три тарелки, два котла
Сбросил на пол со стола
И в кастрюлю с молоком
Кинул клещи с молотком?
Дядя Боря говорит:
— Чьи же это вещи?
Тетя Варя говорит:
— Чьи же это клещи?
Дядя Боря говорит:
— Чья же эта дудочка?
— Тетя Варя говорит:
Чья же эта удочка?
Убегает серый кот,
Пистолета не берет.
Удирает черный пес,
Отворачивает нос.
Не приходят курицы,
Бегают по улице.
Важный, толстый, как сундук,
Только фыркает индюк,
Не желает дудочки,
Не желает удочки.
А является один
Пятилетний гражданин,
Пятилетний гражданин
Мальчик Петя Бородин.
Напечатают в журнале,
Что
Наконец-то все узнали
Кто —
Три тарелки, два котла.
Сбросил на пол со стола
И в кастрюлю с молоком
Кинул клещи с молотком,
Банку, полную чернил,
В кабинете уронил
И оставил на столе
Деревянный пистолет,
Жестяную дудочку
И складную удочку.
Серый кот не виноват,
Нет.
Черный пес не виноват,
Нет.
Не летали курицы
К нам в окошко с улицы.
Даже толстый, как сундук,
Не ходил сюда индюк,
Только Петя Бородин
Виноват во всем один.
И об этом самом Пете
Пусть узнают все на свете.
1929
Александр Введенский
***
Когда я вырасту большой,
Я снаряжу челнок.
Возьму с собой бутыль с водой
И сухарей мешок.
Потом от пристани веслом
Я ловко оттолкнусь.
Плыви, челнок! Прощай, мой дом!
Не скоро я вернусь.
Сначала лес увижу я,
А там, за лесом тем,
Пойдут места, которых я
И не видал совсем.
Деревни, рощи, города,
Цветущие сады,
Взбегающие поезда
На крепкие мосты.
И люди станут мне кричать:
«Счастливый путь, моряк!»
И ночь мне будет освещать
Мигающий маяк.
1940
Александр Введенский
Теплоход
Вот к ялтинскому молу
Лениво пристает
Огромный и тяжелый
Двухтрубный теплоход.
Уже идет погрузка —
Спускают в трюмы груз.
По лесенке по узкой
Наверх я заберусь.
И прогудит протяжно
Торжественный гудок,
И ласковый и влажный
Подует ветерок.
И мы в большое море
Спокойно поплывем,
И песню на просторе
Все вместе запоем!
1937
Даниил Хармс
Из дома вышел человек
Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шел все прямо и вперед
И все вперед глядел.
Не спал, не пил,
Не пил, не спал,
Не спал, не пил, не ел.
И вот однажды на заре
Вошел он в темный лес
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.
Но если как-нибудь его
Случится встретить вам,
Тогда скорей,
Тогда скорей,
Скорей скажите нам.
1937
Николай Заболоцкий
Песня туриста
Воды студеной
Налью в баклажку,
В мешок засуну
Носки, рубашку.
Зовет и манит
Далекий край.
Прощай, товарищ,
Не забывай!
Есть на Кавказе
Большие горы,
В горах тропинки,
Ущелья, норы.
Под облаками
У самых звезд
Найду я кручи
Орлиных гнезд.
Внизу под ними
Бушует Терек,
Спущусь я сверху
На самый берег,
И вместо крика
Седых орлов —
Реки услышу
Веселый рев.
Потом в Сухуме,
Где апельсины,
Где абрикосы,
Где мандарины,
Где возле пальмы
Большая тень, —
Купаться буду
Два раза в день.
Настанет осень,
К занятьям новым
Вернусь я крепким,
Вернусь здоровым.
Теперь пора мне
В далекий путь.
Прощай, товарищ,
Не позабудь!
Юрий Владимиров
Самолет
Самолет стоит на поле,
На колесиках стоит.
Он готовится к полету,
Он пропеллером блестит.
Затрещали три мотора —
Три мотора по бокам.
Побежал самолет,
Полетел к облакам.
Два механика-пилота
Между крыльев впереди
Управляют самолетом
У мотора впереди.
Я сижу, читаю книжку,
Я в окошечко смотрю.
Я немножко почитаю —
И в окошко посмотрю.
Я прочту про город Клязьму —
Я на Клязьму посмотрю,
Я прочту про город Вязьму —
Я на Вязьму посмотрю.
Я над Новгородом трубку
Вынул трубку и набил,
Я над Псковом эту трубку,
Эту трубку закурил.
Я над Псковом чиркнул спичку,
Чиркнул спичку и зажег.
Потушил ее — и бросил
Прямо в Вышний Волочёк!
Трехмоторный самолет —
Он моторами гудит,
Он качается на крыльях,
Он пропеллером блестит.
Он качается на крыльях,
Он пропеллером блестит,
Он над тучами на крыльях
Мимо солнышка летит.
Говорит народ в Тамбове:
«Вот на небе самолет».
«Да, — ответили в Ростове: —
Это, ясно, самолет».
Загудели три мотора —
Три мотора по бокам,
Повернул
Самолет,
Опустился
К облакам.
Ниже,
Ниже,
Мимо
Тучи,
Мимо
Дома
Самолет.
Замолчали
Три мотора,
Разбегается народ.
Пробежался самолет
По песочку, по траве.
Открывает летчик дверь:
«Вылезайте —
Вы —
в Москве».
1930
Александр Введенский
Колыбельная
Я сейчас начну считать:
Раз, два, три, четыре, пять.
Только кончу я считать,
Все давайте спать! Спать!
По дорогам ходит сон —
Раз, два, три, четыре, пять,
Всем приказывает он:
Спать. Спать. Спать. Спать.
Сон по улице пойдет,
А ему навстречу кот.
Кот усами шевелит.
Сон коту уснуть велит.
Раз, два, три, четыре, пять.
Спать. Спать. Спать. Спать.
Навестить идет он кукол.
Только в комнату вступил —
Сразу кукол убаюкал
И медведя усыпил.
Раз, два, три, четыре, пять.
Спать. Спать. Спать. Спать.
И к тебе приходит сон,
И, зевая, шепчет он:
— Спят деревья. Спят кусты.
Поскорей усни и ты.
Раз, два, три, четыре, пять.
Спать. Спать. Спать. Спать.
Сосчитаю я опять:
Раз, два, три, четыре, пять.
Спать.
1937
Александр Введенский
Сны
1
Села кошка на окошко,
Замурлыкала во сне.
Что тебе приснилось, кошка?
Расскажи скорее мне.
И сказала кошка: — Тише,
Тише, тише говори.
Мне во сне приснились мыши —
Не одна, а целых три.
2
Тяжела, сыта, здорова,
Спит корова на лугу.
Вот увижу я корову,
К ней с вопросом побегу:
— Что тебе во сне приснилось?
Эй, корова, отвечай!
А она мне: — Сделай милость,
Отойди и не мешай.
Не тревожь ты нас, коров:
Мы, коровы, спим без снов.
3
Звезды в небе заблестели,
Тишина стоит везде.
И на мху как на постели
Спит малиновка в гнезде.
Я к малиновке склонился,
Тихо с ней заговорил:
— Сон какой тебе приснился? —
Я малиновку спросил.
— Мне леса большие снились,
Снились реки и поля.
Тучи синие носились
И шумели тополя.
О лесах, полях и звездах
Распевала песни я.
И проснулись птицы в гнездах
И заслушались меня.
4
Ночь настала. Свет потух.
Во дворе уснул петух.
На насест уселся он,
Спит петух и видит сон.
Ночь глубокая тиха.
Разбужу я петуха.
— Что увидел ты во сне?
Отвечай скорее мне!
И сказал петух: — Мне снятся
Сорок тысяч петухов,
И готов я с ними драться
И побить их я готов!
5
Спят корова, кошка, птица,
Спит петух. И на кровать
И на кровать
Стала Люша спать ложиться,
Стала глазки закрывать.
Сон какой приснится Люше?
Может быть — зеленый сад,
Где на каждой ветке груши
Или яблоки висят?
Ветер травами колышет,
Тишина кругом стоит.
Тише, люди. Тише. Тише.
Не шумите — Люша спит.
1935
Александр Введенский
Люсина книжка
Звезды в небе отблестели,
И луна давно ушла.
Только Люся на постели
Все спала, спала, спала.
Мама в комнату входила,
Мама девочку будила.
— Раз, два, три, четыре, пять.
Просыпайся, хватит спать.
Солнце светит к нам в окошко,
Птицы песенки поют.
Во дворе гуляет кошка,
И соседи кофе пьют.
Встали куклы, Мишка, чиж.
Ты одна все спишь и спишь. —
Мама девочку будила,
Мама девочку стыдила.
Девочка открыла глазки.
— Мама, снилось мне во сне,
Что смешную очень сказку
Ты рассказывала мне.
А сказка длинная была,
И оттого я проспала.
С добрым утром, синий таз,
Мыться буду я сейчас.
С добрым утром, гребешок,
Щетка, губка, порошок.
Я воды в кувшин налью,
Я тебя, кувшин, люблю.
Это вовсе не беда,
Что холодная вода.
Медвежата, и волчата,
И тигрята, и галчата
Спать ложатся не в кровать.
Мышки, ласточки и кошки
Не должны себе на ножки
Туфель надевать.
Без чулок живут олень,
Слон, мартышка и тюлень.
Но ребята не слоны —
И чулочки им нужны.
Почему не хочет
Мишка бутерброд?
Яблоко румяное
Тоже не берет.
Почему у Мишки
Грустное лицо?
Он не хочет грушу,
Не берет яйцо!
Булку он не кушает,
Молоко не пьет.
Может быть, у Мишки
Заболел живот?
Посмотрите на игрушки —
Все игрушки хороши.
Утки, кубики, лягушки,
Самолет, карандаши.
Кукла Маша,
Радость наша.
Конь,
Горячий,
Как огонь.
По квартире
Резво скачет
На колесах
Этот конь.
— Ты не хочешь ли,
Дружок,
Съесть песочный
Пирожок?
— Нет, спасибо,
Из песка
Не люблю я
Пирожка.
Раз, два, три, четыре.
Тишина стоит в квартире.
Раз, два, три, четыре, пять.
Все легли в кровати спать.
Тихо тикают часы,
Люся спит и видит сны.
Первый сон — про воробья,
А второй — про соловья.
Третий сон — про лес дремучий,
Где живет медведь могучий.
Не бросается медведь,
Не кусается медведь,
С медвежатами медведь
Начинает песни петь.
Тихо тикают часы.
Люся спит и видит сны.
1940
Александр Введенский
Песенка машиниста
Спят ли волки?
Спят. Спят.
Спят ли пчелки?
Спят. Спят.
Спят синички?
Спят. Спят.
А лисички?
Спят. Спят.
А тюлени?
Спят. Спят.
А олени?
Спят. Спят.
А все дети?
Спят. Спят.
Все на свете?
Спят. Спят.
Только я и паровоз,
Мы не спим,
Мы не спим.
И летит до самых звезд
К небу дым,
К небу дым.
1940
Даниил Хармс
Ночь
Дремлет сокол,
Дремлют пташки,
Дремлют козы и барашки,
А в траве в различных позах
Спят различные букашки.
Дремлет мостик над водой,
Дремлет кустик молодой,
Пятаков Борис Петрович
Дремлет кверху бородой.
1931
Юрий Владимиров
Евсей
Заснул Евсей,
Захрапел Евсей,
Только слышен храп
По квартире всей.
Мы его будили,
В барабаны били,
Ему кричали все:
— Вставай, Евсей! —
А Евсей и не слыхал —
Так крепко спал.
Дали сигнал, что заснул Евсей,
Вызвали двадцать пожарных частей,
Приехал брандмейстер с большой бородой,
Велел поливать Евсея водой.
Поливали из ста одного рукава —
Обмелела Фонтанка, обмелела Нева,
Пересохла Мойка и Крюков канал —
И только Евсей все спал да спал.
Позвали к Евсею сто силачей,
Сто скрипачей, сто трубачей.
Сто скрипачей как ударят в смычки —
Сломались смычки, струны — в клочки.
Сто трубачей стали в трубы трубить,
В трубы трубить, Евсея будить.
А силачи — скакать, играть,
Гири в квартире кидать, швырять —
Тут и дом задрожал, тут и пол задрожал,
Но только Евсей по-прежнему спал.
Кликнули роту красноармейцев:
— Готовы помочь? —
— Ну, разумеется! —
Перед домом поставили пушек ряд,
В каждую пушку вложили заряд.
Из пушек палили за залпом залп —
Евсей же спал, да спал, да спал.
Умчались пожарные части домой,
Уехал брандмейстер с большой бородой,
Ушли отдыхать в цирк силачи,
Ушли скрипачи и трубачи,
Промаршировала домой, разумеется,
Первая рота красноармейцев.
Мама к Евсею вошла утром раненько:
— Хочешь, Евсеюшка, мятного пряника? —
Как проснулся Евсей,
Потянулся Евсей,
Гаркнул Евсей
Грудью всей:
— Давай!
1929
Мы благодарим книжный магазин «Маршак», издательство «Клаудберри» и дизайн-студию ESH gruppa за помощь в подготовке материала и предоставленные иллюстрации.
Еще больше стихов и картинок, а также зины с заданиям и наклейками для детей — в сборнике «ОБЭРИУ».
Спецпроект
Детская комната Arzamas
Теги
Дети
Поэзия
Развлечения
Гюго, Дефо и Казанова: кого запрещала Католическая церковь?
Что такое «Индекс запрещенных книг»? И как в нем оказались произведения Макиавелли, Сартра и других известных авторов? Рассказываем о главном цензурном списке Ватикана
Хотите быть в курсе всего?
Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу
Мы обещаем писать редко и по делу
Курсы
Все курсы
Спецпроекты
О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь
Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas
ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSSИстория, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день
© Arzamas 2022. Все права защищены
Что сделать, чтобы не потерять подписку после ухода Visa и Mastercard из России? Инструкция здесь
Стихи Про Советское Детство — подборка стихотворений
А помнишь, как на остановку
Ходили пить мы газировку?
И там ещё стаканы были,
Их тут же в автомате мыли,
И те гранёные стаканы
Никто не тырил, как ни странно.
А как с бидонами бежали
Мы к бочке с квасом? Выпивали
Ещё в дороге половину —
Ты помнишь вкус неповторимый?
А помнишь тот пломбир в брикете?
Вкусней нет ничего на свете.
Вкус детства. Шоколад «Алёнка»,
Сырки, варёная сгущёнка,
Помадки, сахарная вата —
Без ГМО, без консервантов.
А помнишь мамино варенье?
Вот это было объеденье!
И петушки, и мармеладки.
Да, наше детство было сладким —
Хоть и прошло без интернета.
Но сколько же тепла и света,
Весёлых игр и каруселей,
И беззаботного веселья
В нём было. И не виртуальной
Была в нём дружба. Как съезжали
Мы с зимней горки на ледянках,
И в сад возили нас на санках.
И сложно было всё, и просто,
И были ближе в небе звёзды.
Так, в общем, мало было надо
Для счастья нам. Мы были рады
Таким простым вещам по сути.
И остаётся только с грустью
Нам вспоминать о нашем детстве,
Что навсегда осталось в сердце.
2.
Ты помнишь, дружище, вьетнамские кеды?
Коленную выпуклость детских колгот?
Настольный хоккей у блатного соседа.
А ну-ка, напомни, какой это год?
А помнишь те, вязаные рукавицы,
Да-да, на резинке из старых штанов?
Родителей наших счастливые лица…
Гагарин… Высоцкий… Блохин… Моргунов…
Как строили мы во дворах «халабуды»,
И не были метры хрущёвок тесны?
Ты помнишь, как пахли пожухлые груды
Листвы подожжённой? А запах весны?
Ты помнишь – мы жвачку жевали неделю,
Обертку её, словно ценность храня?
Ты помнишь «Орленок»? Вот это был велик.
Его я на спиннинг потом поменял.
Ты помнишь, «копейка» считалась машиной
Престижного класса, — почти «Мерседес»!
«Битлов» мы писали тогда на бобины.
На деньги не спорили — на интерес.
На школьном дворе помнишь лихость былую?
И первый, с ночевкой в палатках, поход?
И, помнишь, решались мы на поцелуи.
А ну-ка, напомни, какой это год?
Так если ты помнишь — вон душу на плаху!
Какая «европа-америка», мля?
«Несчастное детство»? – Иди-ка ты на фиг!
Счастливей — не будет уже у тебя…
3.
У карты бывшего Союза,
С обвальным грохотом в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей.
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей.
- 29.12.2014. Совок — Ингвар Донсков
- 24.12.2014. Бесхитростные стихи о советском детстве
- 09.12.2014. Павел Бастраков
- 05.12.2014. Мои бабули Светлана Байбородова
Портал Стихи. ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.
ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.
Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.
© Все права принадлежат авторам, 2000-2021 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+
Помнишь детство своё… Синяки на коленках…
Руки в свежих царапинах, лица в пыли…
Как всей дружной гурьбой мастерили тележки
Из тех старых колёс, что на свалке нашли.
И под ветра гуденье летели с горушки,
Непременно в крапиве терялся наш след…
А потом из колонки шипящую воду
Пили быстро, взахлёб…Как был нежен рассвет…
Помнишь яркие краски на наших кроватках,
Между прочим, с высоким наличьем свинца.
Чёрный хлеб за 16 (всего – то!) копеек,
Вентилятор, что летом жужжит без конца.
Мы весь день проводили в немыслимых спорах,
Возвращались домой, как зажгут фонари…
Мы до дрожи, подолгу плескались на речке
И почти до икоты смеяться могли.
Уходили с утра проглотивши свой завтрак,
И никто никогда нас не мог отыскать,
Ведь мобильников не было (это же надо!)…
Мы могли бесконечно во что — то играть!
Мы могли объедаться пирожными вдоволь,
Но никто на толстел – мы носились всегда…
А какой была вкусной, всего за копейку,
В жаркий день в автомате у рынка вода!
Мы в колхозном саду воровали черешню,
Нам от мам доставалось нередко потом.
И, сопя всей ватагой, строгали игрушки,
И играли в футбол нашим дружным двором,
И никто не катался на велике в шлеме,
Мы дрались, руки – ноги ломали порой,
И никто не бежал, если вдруг что случалось,
С грозной жалобой в суд… В общем, мир был другой.
У нас не было видиков, телеприставок,
И компьютеров тоже… Но были друзья…
Мы летели без спросу к ближайшему дому
Посмотреть детский фильм… Мы не знали «нельзя»…
У нас не было в школах, как нынче, охраны,
Домофонов и кодов подъездных дверей…
Как бы выжить смогли мы сейчас в этом мире,
Жизнь отныне не та… что – то треснуло в ней.
Покатилось, рассыпалось, съехало с трассы
И увязло в размытой дождём колее…
У тогдашних, у нас, было право на выбор,
Было право на риск, на ошибку – вдвойне.
Мы учились отстаивать в жарких дебатах
Убеждения, взгляды и мысли свои…
Мы учились творить, восхищались прекрасным,
В рощах пели для нас по ночам соловьи.
Наше детство и юность закончилось раньше
До того как правительство сделку свершив,
Обменяв на свободу — сухарики, чипсы,
Интернет – на порывы ребячьей души.
Нет, сейчас всё для блага и только с согласья…
На экране ТV запрещённого нет…
Я устало смотрю на безбедное детство,
Прижимая к груди мой счастливый билет
«Со всем, что мы вытеснили, нам придется встретиться лицом к лицу» – Weekend – Коммерсантъ
В прокате «Ника» — полнометражный дебют выпускницы киношколы «Индустрия» Василисы Кузьминой. В марте фильм представлял Россию в конкурсе американского фестиваля South by Southwest, где исполнительница главной роли Лиза Янковская получила специальный приз жюри. «Ника» основана на биографии поэтессы Ники Турбиной, которая была советским культурным феноменом в 1980-е: в свои 10 лет она получила «Золотого льва» Венецианской биеннале, в 14 перестала писать стихи, а в 27 лет погибла, выпав из окна собственной квартиры. Фильм Кузьминой рассказывает о жизни Ники Турбиной за два года до смерти. Центральным конфликтом становятся здесь отношения поэтессы с матерью: согласно общепринятой версии, детские стихи Ники Турбиной были полностью или частично написаны ее мамой. О конце девяностых, влиянии американской культуры и вытеснении травмы человеком и обществом Василиса Кузьмина рассказала Константину Шавловскому.
В марте фильм представлял Россию в конкурсе американского фестиваля South by Southwest, где исполнительница главной роли Лиза Янковская получила специальный приз жюри. «Ника» основана на биографии поэтессы Ники Турбиной, которая была советским культурным феноменом в 1980-е: в свои 10 лет она получила «Золотого льва» Венецианской биеннале, в 14 перестала писать стихи, а в 27 лет погибла, выпав из окна собственной квартиры. Фильм Кузьминой рассказывает о жизни Ники Турбиной за два года до смерти. Центральным конфликтом становятся здесь отношения поэтессы с матерью: согласно общепринятой версии, детские стихи Ники Турбиной были полностью или частично написаны ее мамой. О конце девяностых, влиянии американской культуры и вытеснении травмы человеком и обществом Василиса Кузьмина рассказала Константину Шавловскому.
Василиса Кузьмина
Фото: Централ Партнершип
Василиса Кузьмина
Фото: Централ Партнершип
Как и почему вы решили снимать байопик Ники Турбиной, что вас привлекло в этой полузабытой истории?
Я просто однажды наткнулась на пост в фейсбуке (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. — “Ъ”) о детях-вундеркиндах. Про Нику Турбину я никогда ничего не слышала, она была популярна в восьмидесятых, а я родилась уже после развала СССР. Но меня поразило то, как она читает свои стихи, поразило недетское восприятие текста. Я пришла к маме, спросила, знает ли она Нику Турбину, и оказалось, что у нее даже была пластинка с ее стихами. Еще меня зацепило время — мы же показываем взрослую Нику, то есть это конец девяностых, а это мое детство. Это только потом я выяснила, что у моих родителей тогда не было денег, а мне-то казалось, что мы живем как короли, у меня были Sony PlayStation и киндерсюрприз каждый вечер. Мне подарили первый плеер как раз в 1999 году, и у меня было два диска — Земфира, первый альбом, и Gorillaz, купленные на Горбушке, и я целый год слушала их с утра до вечера. И вот с этим ощущением времени я приступала к работе над фильмом.
— “Ъ”) о детях-вундеркиндах. Про Нику Турбину я никогда ничего не слышала, она была популярна в восьмидесятых, а я родилась уже после развала СССР. Но меня поразило то, как она читает свои стихи, поразило недетское восприятие текста. Я пришла к маме, спросила, знает ли она Нику Турбину, и оказалось, что у нее даже была пластинка с ее стихами. Еще меня зацепило время — мы же показываем взрослую Нику, то есть это конец девяностых, а это мое детство. Это только потом я выяснила, что у моих родителей тогда не было денег, а мне-то казалось, что мы живем как короли, у меня были Sony PlayStation и киндерсюрприз каждый вечер. Мне подарили первый плеер как раз в 1999 году, и у меня было два диска — Земфира, первый альбом, и Gorillaz, купленные на Горбушке, и я целый год слушала их с утра до вечера. И вот с этим ощущением времени я приступала к работе над фильмом.
Как вы со сценаристкой Юлией Гулян работали с биографией?
Реальная история Ники намного мрачней, чем в фильме. Мы не хотели показывать все, с чем эта девочка столкнулась в жизни, многое осталось за кадром. Но, конечно, главная сложность для нас была в том, что мы опирались на мнения других людей — например, того же Александра Ратнера, который хорошо знал маму и бабушку Ники и после их смерти написал 800-страничную биографию.
Мы не хотели показывать все, с чем эта девочка столкнулась в жизни, многое осталось за кадром. Но, конечно, главная сложность для нас была в том, что мы опирались на мнения других людей — например, того же Александра Ратнера, который хорошо знал маму и бабушку Ники и после их смерти написал 800-страничную биографию.
Как вы относитесь к его книге? У вас не было от нее ощущения посмертной эксплуатации судьбы и образа девочки-вундеркинда?
Да, но мы опирались не только на эту книгу, мы встречались с людьми, которые знали Нику, смотрели документальные фильмы. И, к сожалению, не нашли ничего, что радикально опровергало бы Ратнера. При этом то, в чем я с ним не согласна, в фильм не вошло. В его представлении, например, мама писала за нее почти все, а у меня сложилось другое ощущение. Если честно, мы хотели поставить всю эту историю с авторством под вопрос: это все правда или это ей только показалось? Пытались сделать так, чтобы у зрителя не было однозначных ответов.
То есть — пытались ее спасти?
Пытались.
Ники и ее семьи нет в живых, и некому даже возмутиться тем, как они показаны на экране,— для вас не было тут этической проблемы?
Есть. Но я скажу так: я просто ее очень полюбила. И мне хотелось сделать ее живой, обаятельной, какой-то настоящей. Осязаемым человеком, который любил танцевать, которому нравились парни, который шутил и слушал музыку.
Почему вы решили не использовать в фильме стихи самой Ники Турбиной?
Да, у нас она читает стихи современных авторов. Я писала несколько раз сестре Ники, ее единственной родственнице,— сначала она молчала, а потом ответила: извините, нет. Возможно, мы все равно могли бы использовать ее стихи, а потом уже разбираться, потому что в реестре они не были оформлены на сестру, они ни на кого не были оформлены. Когда Ника умерла, ее тело еще месяц без востребования лежало в морге. То есть ни она, ни ее стихи не были кому-то особенно интересны. Но мы решили, что если можно избежать конфликта, то лучше его избежать.
Предыдущая фотография
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Следующая фотография
1 / 7
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Фото: Централ Партнершип
Но вы понимали, что этим самым вы как бы повторно лишили ее права на тексты, подписанные ее именем?
Если бы для нас эта история была о том, кто на самом деле писал стихи Ники Турбиной, про поэзию и про важность этих текстов, то — да. Но поэзия в этом фильме — просто фон. Он же не о том, как человек не смог выжить без поэзии: на самом деле он не смог выжить без любви.
Но поэзия в этом фильме — просто фон. Он же не о том, как человек не смог выжить без поэзии: на самом деле он не смог выжить без любви.
Роль Ники вы писали специально на Лизу Янковскую?
Нет. У меня был довольно изнуряющий кастинг, а Лиза пришла за две недели до него, потому что она куда-то уезжала. И я сразу подумала: «Ну это, по-моему, оно». Но я же дебютантка, и мне все взрослые сказали: «Ты просто попала под обаяние артиста». В итоге, отсмотрев около 500 актрис, я все равно вернулась к Лизе. А когда мы ее утвердили, выяснилось, что за два месяца до пандемии она репетировала спектакль про Нику Турбину, который потом так и не вышел.
Как вы работали с ней над ролью?
Мы два месяца репетировали, поэтому до съемок у нас был полностью собран весь фильм. Это было необходимо, потому что мы снимали на пленку и были очень ограничены в дублях.
А зачем этой истории нужна пленка?
Ну, во-первых, это была моя мечта. Во-вторых, пленка очень организует процесс. На площадке нет никого, кто сидит в телефоне, и все понимают, что на каждую сцену есть максимум три-четыре дубля. В-третьих, мне хотелось создать ощущение времени, осязаемого, плотного, жирного, документального, теплого изображения. Потому что время было для меня одним из героев этой истории.
На площадке нет никого, кто сидит в телефоне, и все понимают, что на каждую сцену есть максимум три-четыре дубля. В-третьих, мне хотелось создать ощущение времени, осязаемого, плотного, жирного, документального, теплого изображения. Потому что время было для меня одним из героев этой истории.
Второй раз за год я вижу Анну Никитичну Михалкову в образе токсичной матери — сначала в «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова и теперь у вас. Почему вы выбрали именно Михалкову?
С фильмом Соколова, конечно, параллели напрашиваются, но я-то как раз шла от противного. Мне хотелось найти какую-то, наоборот, теплую женщину, и Аня вызывает у меня это ощущение теплоты, любви, материнства, какой-то защиты. И я хотела сыграть на этом контрасте.
Ближе к финалу в фильме появляются макабрические сцены, как, например, объяснение Ники с Ваней или кошмар Ники, в котором Ваня целуется с ее матерью. Почему-то кажется, что фантасмагорических эпизодов изначально было больше.
Да, и мы отказались от ряда решений на монтаже. Могу сказать, что у фильма, например, был совсем другой финал. Тот финал, который у фильма сейчас, мы выбрали, потому что поняли, что не хотели ее убивать. Притом что зритель может прочесть, как реальная Ника Турбина умерла, она у нас еще стоит две с половиной минуты в кадре перед титрами.
Могу сказать, что у фильма, например, был совсем другой финал. Тот финал, который у фильма сейчас, мы выбрали, потому что поняли, что не хотели ее убивать. Притом что зритель может прочесть, как реальная Ника Турбина умерла, она у нас еще стоит две с половиной минуты в кадре перед титрами.
А каким был финал изначально?
Давали ей шанс альтернативно прожить свою жизнь, отказавшись от стихов в детстве. Фантазировали на тему того, что было бы, если бы девочка однажды сказала: «Я не буду выступать, пусть мама читает, это взрослые стихи».
Фильм начинается со спойлера «Шестого чувства», и дальше по сюжету рассыпаны цитаты из знаковых фильмов того времени: «Бойцовский клуб», «Матрица»…
Ну, это абсолютно такие мейнстримовские на самом деле пасхалки, они все очевидны и не претендуют на какую-то многослойность. Конечно, все эти фильмы — про обманку, про иллюзию вместо реальности. А еще это культовые фильмы для нашего поколения. Вообще, влияние американской культуры и американского кино на Россию в конце девяностых, по-моему, сложно переоценить. Мы все были «influenced by western culture», как у меня было написано на футболочке, которую я носила в школе. Сейчас, наверное, такое уже и невозможно надеть.
Мы все были «influenced by western culture», как у меня было написано на футболочке, которую я носила в школе. Сейчас, наверное, такое уже и невозможно надеть.
Мне показалось, что у вас получился фильм еще и о том, как сконструирована постсоветская идентичность. И главным твистом тут оказывается не то, что реальность является фикцией, а то, что ваша героиня об этом однажды уже узнала, но вытеснила это знание. Как если бы Нео в «Матрице» выбрал синюю таблетку.
Да, и я сама почувствовала это особенно сильно на нашей премьере в Америке в середине марта. Потому что контекст полностью затмил то, что ты на самом деле закладывал в фильм, и он действительно стал звучать по-другому. Мне самой казалось, что мы просто говорим про личную травму, про то, что человек, когда ему очень больно, может забыть об этой боли, вытеснить ее. Вот меня в детстве покусала собака очень сильно, так, что я две недели лежала в коме, и я об этом забыла. Мы подумали, что так могло быть и с Никой. И когда я сейчас пересматривала эпизод, где мама говорит Нике: «Ты что, действительно не помнишь?» — у меня было абсолютное ощущение, что она говорит о том, что мы все испытываем сейчас. О том, что со всем, что мы вытеснили и не отрефлексировали, нам снова придется встретиться лицом к лицу.
О том, что со всем, что мы вытеснили и не отрефлексировали, нам снова придется встретиться лицом к лицу.
Вы для себя ответили на вопрос, кто виноват в том, что произошло с реальной Никой Турбиной?
Я думаю, что все. Все, кто ее знал. И это опять же созвучно с сегодняшним днем: все виноваты.
Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram
Первая любовь, таракан за шиворотом и ветер в лицо: каким было пионерское детство?
19 мая 2022 года исполняется ровно 100 лет со дня создания пионерской организации. Те, кто «родом из СССР» и успели побыть пионерами, ностальгически вспоминают, как билось сердце, когда их принимали в пионеры. Как они гордо носили красный галстук, лихо салютовали: «Всегда готов!», как все вместе собирали металлолом и ехали в кузове открытого грузовика на сбор урожая. Как хором пели песни в автобусе, а пионерский костер взвивался прямо в небо.
В честь Дня пионерии, а также 100-летия со дня создания пионерской организации, Mir24. tv рассказывает, каким было пионерское детство наших родителей, бабушек и дедушек
tv рассказывает, каким было пионерское детство наших родителей, бабушек и дедушек
19 мая 1922 году на II Всероссийской конференции комсомола было принято решение о создании детской организации, которая будет растить достойную смену своим родителям – строителям коммунизма. В основу легли принципы деятельности скаутских отрядов, которые во время Гражданской войны и разрухи организовывали отряды детской милиции, помогали разыскивать беспризорных детей и оказывали социальную помощь пожилым людям, инвалидам и всем, кто в ней нуждался. Стать пионером было почетно – это означало, что ты лучший в учебе, труде и спорте. Что ты честный и верный товарищ, стоящий за правду и справедливость. Кандидаты на вступление в пионерскую организацию делами доказывали, что они достойны стать пионерами.
А в момент вступления в ряды пионерской организации они на торжественной пионерской линейке перед строем произносили клятву «горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин». После чего комсомольцы или коммунисты торжественно повязывали им пионерские галстуки – символ принадлежности к пионерии. И вручали пионерский значок. Те, кого приняли в пионеры, носили галстук с гордостью. Многие новички даже не застегивали куртку – чтобы всем был виден красный галстук.
После чего комсомольцы или коммунисты торжественно повязывали им пионерские галстуки – символ принадлежности к пионерии. И вручали пионерский значок. Те, кого приняли в пионеры, носили галстук с гордостью. Многие новички даже не застегивали куртку – чтобы всем был виден красный галстук.
Пионеры не сидели без дела. На регулярных сборах пионерских отрядов намечали список дел, которых всегда было невпроворот. И решали, кто за что отвечает. Одни навещали подшефных пенсионеров, другие рисовали стенгазету, третьи писали для этой стенгазеты стихи или фельетоны. Были ответственные за политинформацию (они читали газеты и рассказывали остальным самое важное). Были те, кто подтягивал отстающих – делал с ними домашнее задание. Некоторым нравилось возиться с малышами – они становились вожатыми у октябрят и вечно ходили по школе, увешанные гроздьями подопечных. Были и турпоходы, и регулярные смотры строя и песни, к которым все готовились. Раз в год проходила масштабная военизированная игра «Зарница», в которой участвовали самые спортивные и тренированные пионеры.
Чтобы энтузиазм не затухал, проводились соревнования с другими отрядами. Не только спортивные и песенные, но и по сбору макулатуры или металлолома. А также – по другой проведенной работе: суммировалось все. Итоги соревнований подводили на общешкольной линейке четыре раза в год. Самых активных поощряли почетными грамотами. А особо отличившиеся могли даже получить путевки в легендарные пионерские лагеря «Артек» и «Орленок». Это было вожделенной мечтой практически всех советских пионеров.
«Мне нравились пионеры-герои»: воспоминания тех, кто был пионеромАнна Боркова, пионерка 80-х:
«Меня из всех одноклассников приняли в пионеры самой первой. Как я гордилась! Я тогда была довольно наивным и романтичным ребенком, мне нравились пионеры-герои. Они меня восхищали и вдохновляли. Я мечтала, что тоже смогу отдать свою жизнь за Родину.
А потом, уже став старше, я попала в пионерский лагерь и встретила там настоящих друзей. Мы дежурили у ворот лагеря и у нас было много свободного времени.
Один мальчик здорово играл на гитаре, а другие читали стихи наизусть. Тогда я узнала про Вознесенского, Евтушенко, Роберта Рождественского и Веронику Тушнову. После возвращения из лагеря мы не потеряли друг друга и общаемся до сих пор. Конечно, это все уже не про пионерскую организацию – и наши поездки, и песни, и байдарочные походы. Но я встретилась с лучшими в моей жизни людьми именно в пионерском лагере. Со многими из них я общаюсь до сих пор».
Михаил Петров, пионер 60-х:
«Сейчас много ругают то, что было в СССР. Но я считаю, что пионерское детство моего поколения было очень счастливым! Мы были искренними, и по-настоящему пылали наши сердца. Мы верили, что строим коммунизм и увидим его собственными глазами. Что наши дети уже будут жить в нем. Вокруг столько происходило! И комсомольские стройки, и стройотряды, в которые ездил мой брат, и полет человека в космос! А пионерия – она давала ощущение, что ты не сам по себе, а ко всему этому причастен.
Помню, как мы собирали металлолом: на каждом заборе повесили объявления, что делаем это для укрепления обороноспособности нашей страны. Мы шли отрядом, все в пионерских галстуках, останавливались во дворе дома, трубили в пионерский горн, громко декламировали задорную кричалку, агитируя всех сдавать металлолом, и начинали петь пионерские песни. А жители дома, услышав это, все тащили нам кто что мог. Смеялись, хвалили и помогали. А потом мы ехали вместе с этим ломом и поверх него в кузове грузовика, и ветер дул в лицо, и было ощущение счастья!»
Ирина Баринова, пионерка начала 80-х:
«В детстве я была активисткой, состояла в совете дружины школы. И это была прямо классная тусовка! Мы все время что-то придумывали: концерты, капустники, писали всякие смешные стихи для стенгазеты, и было много другого веселого. Запомнилось, как мы придумывали домашние задания для всех отрядов, которые участвовали в КВН. И еще мы пили чай с сухариками и болтали обо всем на свете. К нам на заседания заходили друзья, и совет дружины превращался просто в клуб по интересам. Мы уже были старшими пионерами и очень хотели нравиться, поэтому все лезли из собственной шкурки, чтобы быть интересными. И жизнь была невероятно насыщенной!»
К нам на заседания заходили друзья, и совет дружины превращался просто в клуб по интересам. Мы уже были старшими пионерами и очень хотели нравиться, поэтому все лезли из собственной шкурки, чтобы быть интересными. И жизнь была невероятно насыщенной!»
Антонина Седышева, пионерка конца 70-х:
«В пионерском лагере, куда я ездила три года подряд, меня научили барабанному бою. Мне очень нравилось, что я вместе со знаменной группой, марширую, вытянув носочек, и потом – в белых перчатках – исполняю барабанную дробь, пока поднимают флаг. И вытянувшиеся по команде «смирно» отряды наблюдают это торжественное действо.
Мне были скучны политинформации, но увлекали рассказы о героях, я и сама мечтала о каком-нибудь геройском поступке. Однажды мне даже представилась такая возможность. Правда, о моем героизме никто так и не узнал. Дело в том, что мальчишка из нашего отряда сунул мне за шиворот таракана. Как раз в тот момент, когда я в составе знаменной группы уже должна была тронуться торжественным маршем вдоль строя.
И этот таракан бегал у меня по спине, под белой рубашкой, все время, пока я шла вдоль строя, барабанила дробь, и возвращалась обратно. И я не убежала, вопя от ужаса и сдирая с себя рубашку, как мне отчаянно хотелось. Так что пионерская стойкость – это вам не семечки!»
Анна Зуева пионерка 80-х:
«В шестом классе меня избрали в совет дружины школы. Там я отвечала за культмассовый сектор. Но больше всего мне нравились совместные собрания с комитетом комсомола. Мы собирались после уроков в кабинете у вожатого, и вожатый, красивый юноша, неизменно присутствовал на всех наших сборищах. Я в него была тайно влюблена. Впрочем, все комсорги старших классов, как правило, мальчики, тоже были веселые и симпатичные. И если столовая уже не работала, то кто-нибудь бегал за пончиками и лимонадом. Иногда мы засиживались дотемна. Ели пончики, пили лимонад, смеялись, разговаривали обо всем на свете, параллельно обсуждали и наши общие дела тоже.
После седьмого класса я поехала в лагерь пионерского актива. С теплом вспоминаю эту поездку. Кормили нас как на убой. И все время были какие-то тренинги, мастер-классы, конкурсы. По вечерам мы собирались в беседке. Шутили, смеялись, пели песни под гитару, готовились к конкурсам и выступлениям.
С теплом вспоминаю эту поездку. Кормили нас как на убой. И все время были какие-то тренинги, мастер-классы, конкурсы. По вечерам мы собирались в беседке. Шутили, смеялись, пели песни под гитару, готовились к конкурсам и выступлениям.
Наверное это правда, что пионерская организация, так же как комсомол, являлась порождением тоталитарной системы. Но и есть другая правда. Она моя, субъективная. О многих вещах, связанных с моим участием в пионерской деятельности, я вспоминаю с удовольствием и теплотой. Некоторые навыки и способности, которые мне сильно пригодились в жизни потом, я приобрела именно через эту организацию. Может быть, кому-то и без общественной работы хватило моментов единения со сверстниками, а лично мне – нет.
Мы жили в интересное время, я никогда его не ругаю. Было и сложно, и радостно. А пионерская организация объединяла нас, и многие большие и интересные дела начинались именно благодаря ей».
Тайные уроки советских детских стихов
Когда моя семья покинула разваливающийся СССР, мы взяли с собой Россию
мы хотели напомнить: классические тома переходили из поколения в поколение
затем, копия самиздата и любимые массовым рынком сборники рассказов,
спрятаны в багаже и одежде. Каждый день после школы в Израиле,
куда мы иммигрировали, мы с сестрой сидели на кухне,
зачарованная, когда моя бабушка вызывала в воображении призраки русской литературной
мимо. В детстве моя бабушка подумывала сообщить о своих родителях в
власти за их антисоветские речи; она плакала в нее
школьная форма после смерти Сталина. Но процессы десталинизации
оттепели и перестройки, в ходе которых были открыты архивы, и сотни
тысячи несправедливо преследуемых людей освобождены и реабилитированы, освобождены
неисчислимое количество запрещенных литературных шедевров голодной публике
за правду. Рассказывая нам о нашем наследии, моя бабушка сделала
всемирно-исторические деятели советского режима кажутся сносками в
благороднейшая история русской поэзии, если не прямые объекты
насмешка. Под ее руководством мы запоминали и выполняли
бесчисленные русские стихи. Один популярный из раннего советского периода
дал Сталину прозвище «усатый жук»,
— с особым отвращением произнесла бабушка.
Каждый день после школы в Израиле,
куда мы иммигрировали, мы с сестрой сидели на кухне,
зачарованная, когда моя бабушка вызывала в воображении призраки русской литературной
мимо. В детстве моя бабушка подумывала сообщить о своих родителях в
власти за их антисоветские речи; она плакала в нее
школьная форма после смерти Сталина. Но процессы десталинизации
оттепели и перестройки, в ходе которых были открыты архивы, и сотни
тысячи несправедливо преследуемых людей освобождены и реабилитированы, освобождены
неисчислимое количество запрещенных литературных шедевров голодной публике
за правду. Рассказывая нам о нашем наследии, моя бабушка сделала
всемирно-исторические деятели советского режима кажутся сносками в
благороднейшая история русской поэзии, если не прямые объекты
насмешка. Под ее руководством мы запоминали и выполняли
бесчисленные русские стихи. Один популярный из раннего советского периода
дал Сталину прозвище «усатый жук»,
— с особым отвращением произнесла бабушка.
Недавно я вспомнил о своей бабушке, когда читал «Огненную лошадь», новый перевод детских стихов из New York Review Books. В томе переводчик Евгений Осташевский, русский
эмигрант, который сам по себе талантливый поэт-экспериментатор,
представляет популярные детские стихи трех крупнейших русских поэтов — одного
каждый русский футурист Владимир Маяковский, антиквар
модернист Осип Мандельштам и абсурдист Даниил Хармс. Отрендерено в
ликующий, энергичный английский, эти повествовательные стихи сопровождаются
их оригинальные и любимые авангардные иллюстрации. Оба Маяковского
а Хармс писал для государства детские пропагандистские стихи, зарабатывая
столь необходимые деньги; Мандельштам, который терпеть не мог писать по найму,
поддерживал себя как критик и переводчик и полагался на свою жену,
мемуаристка Надежда Мандельштам. Но за их работу в качестве детских авторов
все три поэта опирались на образы и приемы, использовавшиеся в их
откровенно экспериментальные, подрывные произведения. В условиях социальных потрясений они
говорил с молодежью поверх голов цензоров о поиске и
защищая территорию воображения.
В томе переводчик Евгений Осташевский, русский
эмигрант, который сам по себе талантливый поэт-экспериментатор,
представляет популярные детские стихи трех крупнейших русских поэтов — одного
каждый русский футурист Владимир Маяковский, антиквар
модернист Осип Мандельштам и абсурдист Даниил Хармс. Отрендерено в
ликующий, энергичный английский, эти повествовательные стихи сопровождаются
их оригинальные и любимые авангардные иллюстрации. Оба Маяковского
а Хармс писал для государства детские пропагандистские стихи, зарабатывая
столь необходимые деньги; Мандельштам, который терпеть не мог писать по найму,
поддерживал себя как критик и переводчик и полагался на свою жену,
мемуаристка Надежда Мандельштам. Но за их работу в качестве детских авторов
все три поэта опирались на образы и приемы, использовавшиеся в их
откровенно экспериментальные, подрывные произведения. В условиях социальных потрясений они
говорил с молодежью поверх голов цензоров о поиске и
защищая территорию воображения.
Иллюстрация к «Огненной лошади» Маяковского. Иллюстрация Лидии Поповой
Иллюстрация Лидии Поповой
В стихотворении Маяковского 1927 года, дающем название сборнику, для Например, мальчик, намеревающийся стать кавалеристом Красной Армии, должен собрать свою лошадку из обрезков. Он тащит своего отца, чтобы умолять для материалов от ремесленников города. Нарисовано Лидией Поповой в виде блочного бумажных кукол, рабочие частично участвуют в изготовлении мальчиком Огненная лошадь. Перевод Осташевского передает дух революция в этом коллаже:
Какая зарядка,
какая лошадь!
Как огонь, так жарко!
Можно идти вперед,
можно идти назад!
Можно галопом,
а можно рысью!
Его глаза голубые,
Его бока пестрые,
Он взнуздан,
Он оседлан . . .
Будучи подростком в царской России, Маяковский уже посещал
митинги анархистов и распространение социалистических листовок. Пребывание в
тюрьма превратила его в поэта; революция сделала его коммунистом.
Провозгласив себя «большевиком в искусстве», Маяковский основал бесчисленное множество
авангардистские группы, которые по-разному вдохновляли или ужасали советскую
власти в двадцатых годах прошлого века. Когда он покончил с собой, в 1930,
якобы из-за романтического отказа власти смогли
сгладить его образ образцового советского писателя. «Обузданный» и
«оседланное», как описанный им конек, наследие Маяковского
оспаривается и сегодня. Поэты-отступники собираются у его памятника в Москве, чтобы прочитать свои оппозиционные стихи, а протесты проходят в метро Маяковского.
Вокзал и марши начинаются от площади Маяковского.
Когда он покончил с собой, в 1930,
якобы из-за романтического отказа власти смогли
сгладить его образ образцового советского писателя. «Обузданный» и
«оседланное», как описанный им конек, наследие Маяковского
оспаривается и сегодня. Поэты-отступники собираются у его памятника в Москве, чтобы прочитать свои оппозиционные стихи, а протесты проходят в метро Маяковского.
Вокзал и марши начинаются от площади Маяковского.
«Два трамвая» Мандельштама. Иллюстрация Бориса Эндера
Если бы Маяковский был поэтом-слоганом широкой московской улицы,
Мандельштам был писателем петербургской традиции: угрюмый
неоклассицизм. В «Двух трамваях» Мандельштама с 1925, Зам, трамвай,
ищет своего компаньона, Щелка, который потерялся в городе. Как будто бы
вдохновленная быстро модернизирующимся городским пейзажем, эта работа
посвящение поэту Николаю Гумилеву, другу Маяковского,
казнен в 1921 году. Любезные трамваи Мандельштама перегружены и в
ужасная форма: «Грохот и грохот по стыкам на трассе / Дал
Нажмите на сокрушительную боль платформы». Иллюстрации Бориса Эндера,
показать трамваи, плавающие в море неразличимой синевы, как будто,
несмотря на все свое рвение, дивный новый городской мир машин постоянно
грозит раствориться в воздухе. Для Мандельштама меньше десяти лет
после того, как он написал «Два трамвая», это произошло. В 1934, он продекламировал свою печально известную
эпиграмма на Сталина к обедающим гостям; он был осужден одним из них,
арестован, сослан, снова арестован и отправлен на смерть в ГУЛАГ.
Иллюстрации Бориса Эндера,
показать трамваи, плавающие в море неразличимой синевы, как будто,
несмотря на все свое рвение, дивный новый городской мир машин постоянно
грозит раствориться в воздухе. Для Мандельштама меньше десяти лет
после того, как он написал «Два трамвая», это произошло. В 1934, он продекламировал свою печально известную
эпиграмма на Сталина к обедающим гостям; он был осужден одним из них,
арестован, сослан, снова арестован и отправлен на смерть в ГУЛАГ.
Иллюстрация к «Игре» Даниила Хармса. Иллюстрация Владимира Конашевича.
самый известный; Помню, в детстве бегал и кричал
заразительные строфы. Хармс любил говорить, что он презирает детей, и
посвятили несколько рассказов описанию их жестокого расчленения. Но,
как сын легендарного анархиста, Хармс чувствовал близость
между повстанческой политикой и шумным, бескомпромиссным
воображение детей, и его книги до сих пор широко читаются юными
Россияне сегодня. В «Игре», написанной в 1929, флот маленьких мальчиков
представьте себе, что они кружатся в виде автомобилей, самолетов и пароходов. Но все они
находят, в конце концов, огромную корову на своем пути. Осташевского
перевод прекрасно передает неторопливые шаги этого существа,
преграждая путь:
Но все они
находят, в конце концов, огромную корову на своем пути. Осташевского
перевод прекрасно передает неторопливые шаги этого существа,
преграждая путь:
Корова шла по дороге
По дороге,
По тротуару
Корова шла
По тротуару
Она мычала
3 -му»
Просто настоящая настоящая корова
С какими-то настоящими настоящими рогами
Шла им навстречу по дороге,
Пройдя весь широкий путь
Как показывают нежные иллюстрации Владимира Конашевича, это вряд ли индустриальная утопия — приглушенные коричневые и оливково-зеленые цвета напоминают деревня, а не город. Линии Хармса захватили зарождающееся мир, унаследованный его юными читателями, его новые амбиции и старые проблемы. Тем не менее, они не отказываются от своих шалостей ради компромисса. с реальностью.
Сегодня революционная эпоха 1917 года кажется такой же далекой, как Средний
Века — и русским, и американцам. В наших попытках понять это,
с помощью онлайн-викторин и
палимпсесты,
мы напоминаем советских детей, изображающих пароходы и самолеты в
Стихотворение Хармса — чтобы представить себе революцию, надо запустить
себя в несуществующий мир. Сталинизм, наоборот.
очень жив сегодня. Усатый жук показывает лучшие результаты среди россиян, чем когда-либо, а администрация Путина все чаще возвращается к советской тактике, чтобы удержать власть: учебники переписываются, архивы закрываются, цензура процветает, а оппозиция умирает. Крайне важно для путинского проекта вечного государства сделать идею революции немыслимой.
В наших попытках понять это,
с помощью онлайн-викторин и
палимпсесты,
мы напоминаем советских детей, изображающих пароходы и самолеты в
Стихотворение Хармса — чтобы представить себе революцию, надо запустить
себя в несуществующий мир. Сталинизм, наоборот.
очень жив сегодня. Усатый жук показывает лучшие результаты среди россиян, чем когда-либо, а администрация Путина все чаще возвращается к советской тактике, чтобы удержать власть: учебники переписываются, архивы закрываются, цензура процветает, а оппозиция умирает. Крайне важно для путинского проекта вечного государства сделать идею революции немыслимой.
Тем временем в Соединенных Штатах обсуждение детской литературы
в последнее время сосредоточились, по понятным причинам, на преодолении чувства страха и беспокойства.
Но если сегодняшние читатели хотят дать своим детям возможность построить
лучшего мира из скудных ресурсов настоящего, лукавого
стихи «Огненного коня» — необходимая литература. Обучение детей
дико отождествляют себя, свои тела с буквальными носителями
революцию (армейская лошадь, трамвай, самолет), воплотить
скачок радикальной веры, они демонтируют вид покорного
сознание, которое когда-то заставляло детей горько оплакивать диктатора. В процессе
так, они соединяют поколение новых читателей с революционным духом
из тех, кто пришел раньше. Или, как говорит переводчик «Огненного коня», Евгений
Осташевский в «Пирате, не знающем значения числа Пи» — собственном недавно опубликованном сборнике стихов об отважном дуэте.
потеряно в море:
В процессе
так, они соединяют поколение новых читателей с революционным духом
из тех, кто пришел раньше. Или, как говорит переводчик «Огненного коня», Евгений
Осташевский в «Пирате, не знающем значения числа Пи» — собственном недавно опубликованном сборнике стихов об отважном дуэте.
потеряно в море:
Пират глубоко задумался.
«Будем ли мы существовать, когда эта книга закончится?» — вдруг спросил он.
«Если это хорошая книга», — сказал попугай.
Ребенок, который не может спросить: Поэзия Холокоста Моисея Тейфа | Дело не маленькое: особенности еврейского детства
Фильтр поиска панели навигации Oxford Academic Неважно: особенности еврейского детстваИудаизм и иудаизмКнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации Oxford Academic Неважно: особенности еврейского детстваИудаизм и иудаизмКнигиЖурналы Термин поиска на микросайте
Расширенный поиск
Иконка Цитировать Цитировать
Разрешения
- Делиться
- Твиттер
- Подробнее
Cite
Штерншис Анна,
«Ребенок, который не может спросить: Поэзия Моисея Тейфа о Холокосте»
,
в Anat Helman (ed. )
)
,
Не маленький вещественный вещественный вещества: особенности еврейского детства
(
New York,
2021;
онлайн Edn,
Oxford Academan
, 200002 онлайн Edn,
Oxford Academe 9000
1, 200002. май 2021 г.
), https://doi.org/10.1093/oso/9780197577301.003.0013,
, по состоянию на 15 сентября 2022 г.
Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации Oxford Academic Неважно: особенности еврейского детстваИудаизм и иудаизмКнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации Oxford Academic Неважно: особенности еврейского детстваИудаизм и иудаизмКнигиЖурналы Термин поиска на микросайте
Advanced Search
Abstract
Советский еврейский поэт Моисей Тейф, чей маленький сын был убит во время Холокоста, написал ряд стихов на идиш на табуированную тему массовых потерь еврейских детей во время Второй мировой войны. травма, которую пережила почти каждая советская еврейская семья, но о которой часто лгали или умалчивали. Эта глава посвящена, в частности, одному стихотворению «Кихелех и Земелех», которое было переведено на русский язык и включено в пьесу и которое со временем стало символическим произведением для советских евреев, которым в течение многих лет не хватало язык (или средства) в память о своих потерях.
травма, которую пережила почти каждая советская еврейская семья, но о которой часто лгали или умалчивали. Эта глава посвящена, в частности, одному стихотворению «Кихелех и Земелех», которое было переведено на русский язык и включено в пьесу и которое со временем стало символическим произведением для советских евреев, которым в течение многих лет не хватало язык (или средства) в память о своих потерях.
Ключевые слова: Моисей Тейф, поэзия Холокоста, память советских евреев, идиш-русские переводы, «Кехелех и Земелех», поэзия утраты
Тема
Иудаизм и иудаизм
В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.
Войти
Получить помощь с доступом
Получить помощь с доступом
Доступ для учреждений
Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:
Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:
Доступ на основе IP
Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.
Войдите через свое учреждение
Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.
- Нажмите Войти через свое учреждение.
- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.
- При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением.
 Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.
Войти с помощью читательского билета
Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.
Члены общества
Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:
Войти через сайт сообщества
Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:
- Щелкните Войти через сайт сообщества.
- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом.
 Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.
Вход через личный кабинет
Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.
Личный кабинет
Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.
Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.
Просмотр ваших зарегистрированных учетных записей
Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:
- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.
Выполнен вход, но нет доступа к содержимому
Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.
Ведение счетов организаций
Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.
Покупка
Наши книги можно приобрести по подписке или приобрести в библиотеках и учреждениях.
Информация о покупке
‘Я никогда не услышу голос отца’: Илья Каминский о глухоте и побеге из Советского Союза | Поэзия
Илья Каминский опубликовал всего два сборника стихов за 15 лет, но его второй, Deaf Republic , был провозглашен «современной эпопеей», «совершенно необыкновенной книгой» поэта, которого писатель Гарт Гринвелл назвал «самый блестящий представитель своего поколения, один из немногих гениев в мире». Мужчина, привлекший все эти гиперболы, улыбается округлой улыбкой и отвечает на просьбу фотографа выглядеть более оживленно декламацией стихов на русском и английском языках. «Вот какой-то Мандельштам, — говорит он. «Сейчас я собираюсь дать вам немного Эмили Дикинсон». Его речь немного затягивается, и он извиняется за свой акцент: «По прошествии стольких лет действительно должно быть лучше, — говорит он, — но я слышу только то, что мне дают слуховые аппараты». Потому что Каминский плохо слышит – так что, если считать язык жестов наряду с русским и украинским, он говорит на своем четвертом языке.
Мужчина, привлекший все эти гиперболы, улыбается округлой улыбкой и отвечает на просьбу фотографа выглядеть более оживленно декламацией стихов на русском и английском языках. «Вот какой-то Мандельштам, — говорит он. «Сейчас я собираюсь дать вам немного Эмили Дикинсон». Его речь немного затягивается, и он извиняется за свой акцент: «По прошествии стольких лет действительно должно быть лучше, — говорит он, — но я слышу только то, что мне дают слуховые аппараты». Потому что Каминский плохо слышит – так что, если считать язык жестов наряду с русским и украинским, он говорит на своем четвертом языке.
Deaf Republic — это исследование того, «что происходит с языком во время кризиса, как мы живем и как мы пытаемся оставаться людьми», — объясняет он. «Это то, что я пытаюсь выяснить в своей книге и в своей жизни». В нем чуть менее 60 лирических стихотворений, некоторые из которых состоят всего из двух строк, рассказывается история вымышленного города, жители которого реагируют на убийство глухого ребенка, затыкая уши. Преступление маленького Пети состоит в том, что он плюнул в армейского сержанта, приехавшего разгонять народное собрание в условиях военного положения. «Глухота проходит сквозь нас, как милицейский свисток», — говорят горожане Васеньки, которых автор описывает как «мы», рассказывающие историю».
Преступление маленького Пети состоит в том, что он плюнул в армейского сержанта, приехавшего разгонять народное собрание в условиях военного положения. «Глухота проходит сквозь нас, как милицейский свисток», — говорят горожане Васеньки, которых автор описывает как «мы», рассказывающие историю».
Сам Каминский почти полностью потерял слух после заражения паротитом в возрасте четырех лет в украинском городе Одессе. «Советский врач сказал, что это просто простуда, и отослал нас», — говорит он без жалости к себе. Это судьбоносное медицинское заблуждение связало его с историей способами, которые он все еще переживает. «Именно в день смерти Брежнева моя мать узнает о моей глухоте, и начинается одиссея врачей и больниц», — писал он недавно. «Моя мать кричит пожилым людям в общественном транспорте, чтобы они быстро вставали и уступали место ее больному ребенку; мой отец, смущаясь, прячется с другой стороны троллейбуса. Я не слышу ни слова… Брежнев мертв. Незнакомцы носят черную одежду в общественных местах. Так начинается история моей глухоты».
Так начинается история моей глухоты».
Только когда он приехал в США в возрасте 16 лет, ему дали слуховой аппарат. «Когда я приехал на запад, я увидел, что там была эта инаковость, которую я раньше не замечал», — говорит он. «Почти все мое детство и юность я провел, наблюдая, как разваливается Советский Союз, но я не мог слышать, поэтому я следил за веком глазами. Ничего другого я не знал, но теперь понимаю, что видел на языке образов».
Родился в еврейской семье в Одессе в 19В возрасте 77 лет он наблюдал культурные различия с помощью жестов: «Будучи глухим ребенком, вы действительно замечаете, как по-разному двигаются лица, когда говорят на другом языке». Оживление на идише, с которым говорили его родители, контрастировало с навязанным советским языком русским языком его школьных учителей, так что письмо Исаака Бабеля стало откровением: «Он писал очень стилизованным русским языком с идишской грамматикой, и это шокировало мне увидеть, что то, как мои родители говорили наедине, было в книге».
Стихи подобны заклинаниям. Они не просто о событии. Они сами становятся событием
Он не совсем глухой, отмечает он, и «может быть, из-за того, как мои родители справились с этим, я никогда не чувствовал, что это инвалидность. Я просто так жил». Одесса была космополитическим местом, «городом смеха», в котором почиталась поэзия, и Каминский с ранних лет писал и выучил ее наизусть. Когда ему было 12 лет, его проза была опубликована в местной газете после того, как он ответил на призыв школьников внести свой вклад, потому что у газеты не было денег, чтобы платить журналистам. В 15 лет, хотя он считал поэзию «личным делом», он выпустил свой первый сборник. К тому времени, когда семья была вынуждена покинуть страну, он уже окончил школу.
Он изо всех сил старается подчеркнуть, что это не трагическая история беженца: «В 16 лет я интересовался курением и свиданиями с девушками». Но решение семьи уехать последовало за годами, когда жить еврейской семье в Украине становилось все труднее. «Когда у людей возникают проблемы, они любят обвинять тех, кто не составляет большинства», — деликатно говорит он. Отвечая на вопрос о том, что конкретно послужило причиной их отъезда, он добавляет: «Если ваша дверь сожжена, вы можете просить убежища». Теперь, как и во многих других случаях, я не уверен, насколько буквально он говорит. Его брат, инженер на 15 лет старше его, недавно женился и эмигрировал в Рочестер, штат Нью-Йорк, поэтому семья последовала за ним туда.
«Когда у людей возникают проблемы, они любят обвинять тех, кто не составляет большинства», — деликатно говорит он. Отвечая на вопрос о том, что конкретно послужило причиной их отъезда, он добавляет: «Если ваша дверь сожжена, вы можете просить убежища». Теперь, как и во многих других случаях, я не уверен, насколько буквально он говорит. Его брат, инженер на 15 лет старше его, недавно женился и эмигрировал в Рочестер, штат Нью-Йорк, поэтому семья последовала за ним туда.
В Одессе его родители общались с художниками и журналистами. Его мать была бухгалтером, а отец работал на разных должностях, от повара до фабричного рабочего, ему было отказано в университетском образовании, потому что его семья считалась «врагами народа». Когда отцу Каминского был всего год, его родителей арестовали. Эти события он шокирующе вспоминал в своем дебютном сборнике « Танцы в Одессе »: «…его [деда] застрелил, а мою бабушку изнасиловал / прокурор, засунувший ей во влагалище ручку». Позже бабушке отца удалось «выкрасть» внука у властей.
Республика глухих возвращается к этой истории через импресарио-велосипедистку, маму Галю Армолинскую, которая контрабандой вывозит ребенка с армейского блокпоста в связке белья после того, как оба ее родителя были казнены в отместку за молчаливое восстание. Мама Галя, словно гостья с картины Шагала, руководит труппой воинствующих кукловодов, которые днем учат жестовому языку, а ночью гаротируют солдат. Нам говорят, что в 53 года она слишком стара, чтобы рожать детей, но «занимается сексом больше, чем любой из нас».
Родителям Каминского, которым посвящена книга, было за 50, когда они отправились в ссылку. «В том географическом месте и в то время 50-е годы не были молодыми. У моего отца был первый год выхода на пенсию», — говорит он. Хотя сейчас он легкомысленно относится к этому, ранее он сказал: «Иммиграция — сложная игра; никому бы не советовал. Это ломает жизни». Через год после прибытия в США, за несколько недель до того, как он начал носить слуховые аппараты, умер его отец, поэтому «я никогда не услышу его голоса». Вернувшись в школу, чтобы выучить английский язык, он начал писать стихи на языке своей приемной страны, потому что «было немного неправильным писать стихи о смерти [своего отца]. Как человек мог стать красивой строчкой в стихотворении? Я боялся, что это навредит моей матери и брату, поэтому начал играть на языке, которого они не знали».
Вернувшись в школу, чтобы выучить английский язык, он начал писать стихи на языке своей приемной страны, потому что «было немного неправильным писать стихи о смерти [своего отца]. Как человек мог стать красивой строчкой в стихотворении? Я боялся, что это навредит моей матери и брату, поэтому начал играть на языке, которого они не знали».
Он поступил в юридический институт и некоторое время работал в юридической помощи Сан-Франциско и в Национальном центре иммиграционного права, прежде чем заняться преподавательской деятельностью. Ему было около 20 лет, когда он представил рукопись « Танцы в Одессе » на премию Дорсета, наградой за которую стала публикация. Он победил, и его книга сразу же получила широкое признание и была опубликована более чем на 20 языках.
Так почему же ему потребовалось так много времени, чтобы разобраться в этом? «Я писал. Я редактировал антологии и преподавал. Я заканчиваю сборник эссе, — пожимает он плечами. «Боюсь, я человек страстей, которому трудно сказать людям «нет», отчасти потому, что я глухой ребенок. Возможно, поэтому я поэт, а не писатель». Два года назад его пригласили судить приз, положивший начало его карьере, и в ответ он написал отдельные цитаты для всех 64 работ. Но задержка была также связана с формальным вызовом, который он поставил перед собой: «Я поэт-лирик, но я хотел рассказать историю, поэтому мне нужно было найти способ сделать это. Это должен был быть минималистский рассказ о большой истории. Я думаю, что великие стихи подобны заклинаниям. Они не просто о событии. Они сами становятся событием. Даже не желая того, ты их помнишь».
Возможно, поэтому я поэт, а не писатель». Два года назад его пригласили судить приз, положивший начало его карьере, и в ответ он написал отдельные цитаты для всех 64 работ. Но задержка была также связана с формальным вызовом, который он поставил перед собой: «Я поэт-лирик, но я хотел рассказать историю, поэтому мне нужно было найти способ сделать это. Это должен был быть минималистский рассказ о большой истории. Я думаю, что великие стихи подобны заклинаниям. Они не просто о событии. Они сами становятся событием. Даже не желая того, ты их помнишь».
Вдали от любящей поэзию Одессы Каминский борется с тиранией иронии. «Если вы живете в Бруклине или Блумсбери, вы иронизируете 24/7. Это полезное устройство, но любое устройство должно иметь какую-то эмоциональную актуальность, иначе это просто стиль», — говорит он. «Но, может быть, как восточноевропейцу мне просто комфортнее с эмоциями».
В основе его работы лежит политика глухоты. Это отмечает другой известный глухой поэт, Рэймонд Антробус, обладатель премий Теда Хьюза и Рэтбоунса Фолио в этом году, написавший о Республика глухих : «Я представляю себя моложе, изо всех сил пытающегося приспособиться к школе для глухих, тайно пишущего стихи и наткнувшегося на эту книгу. Это изменило бы мою жизнь». Текст «Республика глухих » перемежается иллюстрациями на языке жестов и заканчивается последовательностью из четырех слов, которая примерно переводится как «Город наблюдает за историей земли».
Это отмечает другой известный глухой поэт, Рэймонд Антробус, обладатель премий Теда Хьюза и Рэтбоунса Фолио в этом году, написавший о Республика глухих : «Я представляю себя моложе, изо всех сил пытающегося приспособиться к школе для глухих, тайно пишущего стихи и наткнувшегося на эту книгу. Это изменило бы мою жизнь». Текст «Республика глухих » перемежается иллюстрациями на языке жестов и заканчивается последовательностью из четырех слов, которая примерно переводится как «Город наблюдает за историей земли».
«Глухие не верят в тишину. Молчание — изобретение слуха», — настаивает Каминский. На просьбу уточнить это, он цитирует исследование, в котором слышащие и глухие люди из разных культур и с разными языками были помещены в отдельные комнаты. «К концу эксперимента слышащие люди сидели в разных углах комнаты, а глухие создавали новый язык. Культура глухих — это прекрасно. Это один из самых молодых языков в мире, и он все еще развивается».
Он снимает свои слуховые аппараты, возвращаясь в Одессу, потому что только читая по губам, он может ощутить ее знакомость.и семья в Одессе, потому что только читая по губам, он может ощутить ее знакомость. Это осознание, связанное с его художественным кредо, что отсутствие языка дает нам силу: что иногда самые сильные истины могут содержаться «всего в нескольких словах, окруженных пространством».
Республика глухих состоит из двух стихотворений, которые говорят о США не меньше, чем о стране, где он родился. Пролог признает множественную вину: «На улице денег в городе денег в стране денег мы (простите нас) жили счастливо во время войны». Сейчас Каминский — профессор поэзии в техническом колледже Атланты, где он живет со своей женой Кэти Фэррис, тоже писательницей и поэтессой. В Сан-Диего, где они оба работали ранее, он стал свидетелем «гротескных картин того, что происходит на границах в США и остальном мире». Послесловие существенно сужает эту вину мирного времени до единственного числа:
Житель земли сорок с лишним лет Однажды я оказался в мирной стране. Я смотрю, как соседи открывают свои телефоны, чтобы посмотреть, как полицейский требует у мужчины водительские права.
Когда мужчина тянется к бумажнику, полицейский стреляет. В окно машины. Стреляет.
Каминский по-прежнему работает волонтером в качестве защитника детей-сирот на границе между США и Мексикой. «США находятся в такой сложной ситуации, — говорит он. «Он пытался построить что-то такое красивое. Это действительно интернациональная страна. Но она началась с геноцида всех, кто там жил, и никогда этого не признавала. У него так много страха и конфликтов с самим собой, что ему нужно учиться и платить репарации».
На мгновение он беспокоится, что попал в беду, затем снова теряется в вопросе, может ли поэзия помочь найти выход из тупика. «Я пытаюсь показать частную жизнь, а не только постоянное публичное насилие. Это не всегда обреченность, обреченность, обреченность, всегда есть моменты доброты и нежности».
Он все еще верен своей подростковой вере в то, что поэзия — это личный язык, но, к счастью, он содержит экзистенциальный парадокс. «Каждый настоящий поэт — поэт частный, но если он хороший поэт, его язык будет достаточно мощным, чтобы говорить наедине со многими людьми одновременно».
Deaf Republic издается Faber (10,99 фунтов стерлингов). Чтобы заказать копию, перейдите на сайт guardianbookshop.com или позвоните по телефону 0330 333 6846. Бесплатно в Великобритании на сумму свыше 15 фунтов стерлингов, только онлайн-заказы. Минимальный размер заказа по телефону составляет 1,99 фунта стерлингов.
Прочтите детскую книгу Владимира Маяковского «Кем мне быть?»: классика «золотого века» советской детской литературы фактическое государственное спонсорство», — пишет гарвардский профессор русской литературы Эйнсли Морс. Их «эстетический радикализм прекрасно сочетался с политическими беспорядками». Среди этих художников были футуристы и формалисты, поэты, художники, актеры, режиссеры и многие другие, подпадающие под все эти категории. Самый известный из них — лихой поэт-романтик, писатель, художник, актер, драматург и кинорежиссер Владимир Маяковский — к 19 годам уже добился большой известности.17. После революции он «всецело» бросился на создание игривого, оптимистичного агитпропа для партии и «стал туманным горном для социализма».
По крайней мере, сначала. «Оглядываясь назад, — сокрушается Морс, — трудно без содрогания смотреть на карьеру этих ранних советских художников: все эти художники и писатели сближаются с государственной машиной, которая вскоре приведет к их умственному и физическому уничтожению: тюремному заключению, ссылке, голодание и самоубийство». К сожалению, последнее из них выпало на долю Маяковского; он покончил с собой в 1930, когда сталинский параноидальный тоталитаризм начал набирать силу. Тем не менее, на протяжении 1920-х годов Маяковский был «движим идеологической приверженностью», а также «финансовой необходимостью», как пишет Роберт Берд из Чикагского университета «Приключения в советском воображаемом». Безудержно творческий и идеалистический поэт «преобразовал популярный медиа-ландшафт России» при Ленине.
Хотя он подвергался резкой критике со стороны других художников за свою пропагандистскую деятельность, «под его пером русская поэзия заговорила более гибкой и выразительной (даже анархической) игрой звука и ритма».
Майковский применял свои таланты не только к плакатам и стихам для взрослых, но и к произведениям для детей. «Ранние годы Советского Союза были золотым веком детской литературы, — отмечает New York Review of Books в их описании Огненная лошадь , раннего образца советской педагогики от Маяковского и его товарищей-поэтов Осипа Мандельштама и Даниила Хармса. Страницы, которые вы здесь видите, взяты из первого издания другого классического детского произведения Маяковского — длинного стихотворения 90 259 Кем мне быть? , впервые опубликованной с иллюстрациями Ниссона Шифрина в 1932 году, через два года после смерти автора.
В этих стихах Маяковский призывает своих читателей выбирать свой собственный путь, «создавать свою идентичность», хотя книга направляет их желания «в конкретные существующие роли», предопределенные, казалось бы, очень ограниченным числом профессиональных выборов (все для мужчин). ). Тем не менее, в последних строках Кем мне быть? Маяковский пишет: «Все работы тебе хороши: / Выбирай / на свой вкус!» Книга иллюстрирует то, что Рукси Чжан называет «неэффективностью советской педагогики» на ее ранних стадиях.
Ленин и его еще более жесткий преемник желали «поколения верных рабочих». Вместо этого детские книги, такие как «советская фантазия» Маяковского, часто пропагандируют «свободу, которая коренным образом противоречила советским ожиданиям, что дети будут следовать указаниям режима, не подвергая их сомнению или интерпретируя».
В более ранней детской сказке Маяковского Огненная лошадь несколько мастеров собираются вместе, чтобы сделать красивую игрушечную лошадь, которую нельзя купить в магазине, для мальчика, мечтающего стать кавалеристом. Книга, как пишет Морс, носит «явно дидактический характер», в ней «подробно объясняется, как делается лошадь и за счет чьего труда». Тем не менее, его история звучит не столько как образец государственного представления о рабочем рае, сколько как виньетка из общества «взаимопомощи» анархиста, аристократа и натуралиста Петра Кропоткина. Вполне естественно, что детские книжки Маяковского и его товарищей отражали их стилистическую смелость, индивидуализм и остроумие.
«Это не было большим скачком» для художников-футуристов, «опорой» которых были книги художников с «взаимозависимыми текстом и иллюстрациями». В конце концов, однако, новые художники-авангардисты, такие как Маяковский, были вычищены или «приручены» новым режимом.
Птица демонстрирует это на страницах ниже из издания 1947 года Кем я должен быть? Они соответствуют приведенным выше страницам 1932 года, на которых изображен инженер. В дополнение к замене восторженного взрослого рабочего послушным, послушным ребенком, «абстрактные изображения конструктивистских зданий заменяются реалистическими изображениями неоклассических зданий». В 1932 году соцреализм только что стал официальным стилем Советского Союза. К 1947 году его абсолютный авторитет был в основном неоспоримым. Просмотрите (и прочитайте, если вы читаете по-русски) все 9 произведений Маяковского.0259 Кем мне быть? в Интернет-архиве или вверху этого поста.
Похожие материалы:
Послушайте, как русский футуролог Владимир Маяковский читает его странную и душевную поэзию Единственный сохранившийся фильм «Леди и хулиган» (1918)
Джош Джонс писатель и музыкант из Дарема, Северная Каролина.
Подпишитесь на него на @jdmagness
Анна Ахматова | Фонд «Поэзия»
Анна Ахматова считается одним из величайших поэтов России. Помимо стихов, она писала прозу, в том числе мемуары, автобиографические произведения и литературные исследования о русских писателях, таких как Александр Сергеевич Пушкин. Она также переводила итальянскую, французскую, армянскую и корейскую поэзию. На своем веку Ахматова пережила и дореволюционную, и советскую Россию, но ее стихи расширили и сохранили классическую русскую культуру в периоды авангардного радикализма и формального экспериментирования, а также в удушающих идеологических ограничениях социалистического реализма. Ахматова разделила судьбу многих ее блестящих современников, в том числе Осипа Эмильевича Мандельштама, Бориса Леонидовича Пастернака, Марины Ивановны Цветаевой. Хотя она прожила долгую жизнь, она была непропорционально омрачена бедственными моментами. Исайя Берлин, посетивший Ахматову в ее ленинградской квартире 19 ноября.
По словам Дьёрдя Далоса, 45-я, служившая в России первым секретарем посольства Великобритании, метко назвала ее «королевой трагедии». Оценка Берлина отозвалась эхом в поколениях читателей, которые понимают Ахматову — ее личность, поэзию и, что еще туманнее, ее поэтический образ — как иконическое воплощение благородной красоты и катастрофического затруднительного положения.
Родилась Анна Андреевна Горенко 11 июня 1889 года в Большом Фонтане у Черного моря, третья из шести детей в знатной семье. Ее мать, Инна Эразмовна Стогова, принадлежала к могущественному роду помещиков, а отец, Андрей Антонович Горенко, получил свой титул от собственного отца, созданного в потомственные дворяне для службы в царском флоте. Горенко вырос в Царском Селе (буквально Царское село), гламурном пригороде Санкт-Петербурга, месте роскошной царской летней резиденции и роскошных особняков, принадлежавших русским аристократам. Царское Село было и там, где в 1903 года она познакомилась со своим будущим мужем, поэтом Николаем Степановичем Гумилевым, когда покупала рождественские подарки в большом универмаге Гостиный двор.
Эта первая встреча произвела на Гумилева гораздо более сильное впечатление, чем на Горенко, и он настойчиво ухаживал за ней долгие годы. В Царском Селе Горенко посещала женскую Мариинскую гимназию, но закончила последний год обучения в Фундуклеевской гимназии в Киеве, которую окончила в мае 1907 года; она с матерью переехала в Киев после развода Инны Еразмовны с Андреем Антоновичем. В 1907 Горенко поступила на юридический факультет Киевского женского училища, но вскоре бросила юридическое образование в пользу литературных занятий.
Горенко начал писать стихи еще подростком. Хотя поначалу Гумилев ей не нравился, у них сложились совместные отношения вокруг поэзии. Он редактировал ее первое опубликованное стихотворение, появившееся в 1907 году во втором номере журнала « Сириус », основанного Гумилевым в Париже. Стихотворение она подписала: «На руке его много блестящих колец» (в переводе «На руке его много блестящих колец» 1990) под своим настоящим именем Анна Горенко. Однако в конце концов она взяла себе псевдоним Ахматова.
Псевдоним произошел от семейного предания о том, что одним из ее предков по материнской линии был хан Ахмат, последний татарский вождь, принимавший дань от русских правителей. Согласно семейной мифологии, Ахмат, убитый в своей палатке в 1481 году, принадлежал к царской родословной Чингисхана.
В ноябре 1909 г. Гумилев посетил Ахматову в Киеве, и, неоднократно отвергая его ухаживания, она, наконец, согласилась выйти за него замуж. Церемония венчания состоялась в Киеве в церкви Никольской Слободки 25 и 19 апреля.10. Пара провела свой медовый месяц в Париже, где Ахматова была представлена Амедео Модильяни, в то время никому не известному итальянскому художнику. Встреча была, пожалуй, одним из самых необыкновенных событий юности Ахматовой. Модильяни писал ей письма всю зиму, и они снова встретились, когда она вернулась в Париж в 1911 году. Тогда Ахматова пробыла в Париже несколько недель, сняв квартиру возле церкви св. Пэрис со своей загадочной спутницей. Адресат стихотворения «Мне с тобою пьяным весело» (опубликовано в Вечер , 1912; переводится как «Когда ты пьян, это так весело», 1990) был идентифицирован как Модильяни.
В лирике осенний цвет вязов — намеренная смена времен года со стороны поэтессы, уехавшей из Парижа задолго до конца лета: «Когда ты пьян, так весело — / Твои рассказы не делают смысл. / Ранняя осень натянулась / Вязы с желтыми флажками». Модильяни сделал 16 рисунков Ахматовой в обнаженном виде, один из которых остался с ней до самой смерти; он всегда висел над ее диваном, в какой бы комнате она ни занимала свою часто неустроенную жизнь.
Примерно в это же время Гумилев стал лидером эклектичной и разрозненной литературной группы, получившей амбициозное название «акмеизм» (от греческого akme, — вершина, время расцвета). Акмеизм возник в оппозиции к предшествующей литературной школе, символизму, который был в упадке после того, как почти два десятилетия доминировал на русской литературной сцене. Отличительными чертами символизма были использование метафорического языка, вера в божественное вдохновение и акцент на мистицизме и религиозной философии. Символисты преклонялись перед музыкой как перед самым духовным видом искусства и стремились передать через поэзию «музыку божественных сфер», что было общепринятым символистским выражением.
Напротив, Гумилев и его товарищи-акмеисты обратились к зримому миру во всей его торжествующей материальности. Они сосредоточились на изображении человеческих эмоций и эстетических объектов; заменил поэта-пророка поэтом-ремесленником; и продвигал пластические модели для поэзии за счет музыки. 19 октября11 Гумилев вместе с другим акмеистом, Сергеем Митрофановичем Городецким, организовали литературную мастерскую, известную как «Цех поэтов», или Цех поэтов, на которой за чтением новых стихов следовала общая критическая дискуссия. Ядро новой группы составили шесть поэтов: помимо Гумилева, Городецкого и Ахматовой, которая была активным членом гильдии и выполняла функции секретаря на ее собраниях, в нее входили также Мандельштам, Владимир Иванович Нарбут и Михаил Александрович Зенкевич. Акмеистическую программу в то или иное время разделяли несколько десятков других поэтов; наиболее активными были Георгий Владимирович Иванов, Михаил Леонидович Лозинский, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, Василий Алексеевич Комаровский.
Гумилев изначально был против того, чтобы Ахматова занималась литературной карьерой, но в конце концов поддержал ее стихи, которые, как он обнаружил, гармонировали с некоторыми эстетическими принципами акмеистов. В феврале и марте 1911 года несколько стихотворений Ахматовой появились в журналах Всеобщий журнал ( Universal Journal ) , Gaudeamus и Apollon. Когда она опубликовала свой первый сборник, Вечер (1912; в переводе Вечер , 1990), сразу последовала слава. « Вечер » включает интроспективную лирику, очерченную темами любви и личной судьбы женщины как в счастливых, так и, чаще всего, в несчастливых романтических отношениях. Стиль Ахматовой лаконичен; вместо того, чтобы прибегать к пространному изложению чувств, она дает психологически конкретные детали, изображающие внутреннюю драму. В «Песне последних встреч» (1990 г.) достаточно неловкого жеста, чтобы передать боль разлуки: «Тогда беспомощно похолодела грудь моя, / Но легки были шаги мои.
/ Я натянул перчатку на левую руку / На правую». Точно так же абстрактные понятия раскрываются через знакомые конкретные предметы или существа. Например, в «Любовь» (в переводе «Любовь», 1990), змея и белый голубь символизируют любовь: «Теперь, как змейка, свернулась в клубок, / Сердце твое завораживая, / Потом днями будет ворковать, как голубка, / На маленьком белом подоконнике».
У читателей возник соблазн поискать в этих стихах автобиографический подтекст. Фактически Ахматова преобразовывала личный опыт в своем творчестве через ряд масок и мистификаций. В стихотворении о Гумилеве «О любви…» (напечатано в «Вечер»; в переводе «Он любил…» 19).90), например, она изображает из себя обычную домохозяйку, ее вселенная ограничена домом и детьми. Героиня оплакивает желание мужа оставить простые радости домашнего очага в далекие, экзотические края:
О любви три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
Я стертые карты Америки.
Не люблю, когда плачут дети,
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . А я была его женой.
(Он любил в жизни три вещи:
Вечерняя песня, белые павлины
И старые карты Америки.
Он ненавидел, когда дети плакали,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . А я была его женой.)У Ахматовой и Гумилева не было обычного брака. Большую часть времени они жили отдельно; Одной из самых сильных страстей Гумилева были путешествия, он участвовал во многих экспедициях в Африку. К тому же отношение Ахматовой к мужу не было основано на страстной любви, и за время их недолгого брака у нее было несколько романов (они развелись в 1918). Когда было написано «На любви…», она еще не родила ребенка. Ее единственный сын, Лев Николаевич Гумилев, родился 18 сентября 1912 года. Ахматова доверила новорожденного сына на попечение свекрови Анны Ивановны Гумилевой, проживавшей в г. Бежецке, и поэт вернулся к ней. богемной жизни в Петербурге.
Вторая книга Ахматовой, Четки ( Четки , 1914), была самой популярной.
К моменту выхода тома она стала любимицей петербургского литературного бомонда, слыла поразительной красотой и харизматичной личностью. В эти предвоенные годы, между 1911 и 1915 г. эпицентром петербургской богемы было кабаре «Бродячая собака», располагавшееся в заброшенном подвале винной лавки в особняке Дашкова на одной из центральных площадей города. Художественная элита обычно собиралась в прокуренном кабаре, чтобы насладиться музыкой, чтением стихов или случайным импровизированным выступлением звезды балета. Стены подвала расписаны ярким узором из цветов и птиц театральным художником Сергеем Юрьевичем Судейкиным. Ахматова часто читала свои стихи в «Бродячей собаке», накинув на плечи свою фирменную шаль.
Мандельштам увековечил выступление Ахматовой в кабаре в небольшом стихотворении «Ахматова» (1914). В стихотворении шаль Ахматовой сковывает ее движения и превращает в вневременную и трагическую женскую фигуру. Мандельштам довольно долго преследовал Ахматову, хотя и безуспешно; однако она была более склонна вести с ним диалог в стихах, и в конце концов они стали проводить вместе меньше времени.
«Бродячая собака» была местом, где начинались любовные интриги, где посетители были опьянены искусством и красотой. Там Ахматова впервые встретила нескольких любовников, в том числе человека, который стал ее вторым мужем, Владимира Казимировича Шилейко, еще одного поборника ее поэзии. У нее также был роман с композитором Артуром Сергеевичем Лурье (Лурье), по-видимому, сюжетом ее стихотворения «Все мои бражники здесь, блудницы» (с Четки; переводится как «Все мы здесь гуляки и распутницы», 1990), впервые появившееся в Аполлон в 1913 году: «Ты куришь черную трубку, / Клуб дыма имеет забавную форму. / Я надела свою узкую юбку / Чтобы казаться еще стройнее». В этом стихотворении, точно передающем атмосферу кабаре, также подчеркнуты мотивы греха и вины, которые в итоге требуют покаяния. Две темы, грех и покаяние, повторяются в ранних стихах Ахматовой. Страстная, земная любовь и религиозное благочестие сформировали оксюморонный характер ее творчества, побудив критика Бориса Михайловича Эйхенбаума, автора Анна Ахматова: Опыт анализа (Анна Ахматова: Попытка анализа, 1923), чтобы назвать ее «наполовину монахиня, наполовину шлюха».
Позже слова Эйхенбаума дали повод партийным чиновникам, отвечающим за искусство, запретить поэзию Ахматовой; они критиковали его как аморальный и идеологически вредный.
В Chetki героиня часто молится или взывает к Богу в поисках защиты от навязчивого образа ее возлюбленного, который ее отверг. Такой женский образ появляется, например, в «Я научилась просто, мудро жить» (в переводе «Я научилась жить просто, с умом» 19).90), впервые опубликованной в Русской мысли в 1913 году: «Я научился жить просто, разумно, / Смотреть на небо и молиться Богу… / И если бы ты постучался в мою дверь, / Кажется, меня бы я даже не услышал». Аналогичная героиня говорит в «Будешь жить, не зная лиха» (в переводе «Жить без бед», 1990):
Будешь жить, не зная лиха,
Править и судить,
Со своей подругой тихой
Сыновей растить.
. . . . . . . . . . . .
Я для нас, склоненных долу,
Альтари гориат,
Наши к Божьему престолу
Голоса летиат.
(Жить будешь без бед,
Вы будете управлять, вы будете судить.
С вашим тихим партнером
Вы воспитаете своих сыновей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А для нас, спускающихся в долину,
Алтари горят,
И наши голоса парят
К самому Божьему престолу.)И снова она находит самый экономичный способ нарисовать свой эмоциональный пейзаж. Простота ее лексики дополняется интонацией бытовой речи, передаваемой через частые паузы, обозначаемые тире, например, как в «Проводила друга до передней» (в переводе «Я вывела своего любовника в зал», 1990), появившееся первоначально в ее четвертом томе стихов, Подорожник ( Подорожник , 1921): «Выброс! выдуманное слово—/ Я действительно нота или цветок?» Поэзия Ахматовой также известна своим образцом многоточия, еще одним примером перерыва или паузы в речи, примером которого является «Я не люблю твою прошу» (в переводе «Я не прошу твоей любви» 19).90), написанной в 1914 году и впервые опубликованной в журнале Звезда ( Звезда ) в 1946 году: «Любви твоей я не прошу —/ Она теперь в надежном месте…» Смысл безответной любви у Ахматовой лирика двойственна, потому что говорящий попеременно страдает и заставляет страдать других.
Но падая ли жертвой равнодушия возлюбленного или становясь причиной чужого несчастья, персона передает видение мира, регулярно осаждаемого ужасными событиями — идеал счастья остается недостижимым.
С началом Первой мировой войны началась новая эпоха в истории России. Многие восприняли 1913 год как последнее мирное время — конец изощренного, легкомысленного периода fin de siècle . Художники больше не могли позволить себе игнорировать быстро наступавшую жестокую новую реальность. Для богемной элиты Петербурга одним из первых проявлений новых порядков стало закрытие кабаре «Бродячая собака», не отвечавшего цензурным нормам военного времени. Менялся и поэтический голос Ахматовой; все чаще и чаще она отказывалась от частных жалоб на гражданские или пророческие темы. В стихотворении «Молитва» (в переводе «Молитва», 1990), из сборника Война в русской поэзии ( Война в русской поэзии , 1915), лирическая героиня умоляет Бога восстановить мир в ее стране: «О сем молюсь на Твоей литургии / После стольких мучительных дней, / Чтоб туча над омраченной Россией / Стала облаком славных лучей».
Третий сборник Ахматовой, Белая стая ( Белая стая , 1917), включает в себя не только любовную лирику, но и множество стихов сильного патриотического настроения. Застенчивая в своей новой гражданской роли, она объявляет в стихотворении, написанном в день, когда Германия объявила войну России, что она должна очистить свою память от любовных приключений, которые она описывала, чтобы записать грядущие ужасные события. В «Память 19iiulia 1914» (в переводе «Памяти 19 июля 1914 года», 1990), впервые опубликованной в газете Во имя свободы ( Во имя свободы ) 25 мая 1917 года, Ахматова предполагает, что личная память должна отныне уступи место исторической памяти: «Как отныне ненужный груз, / Из памяти моей исчезли тени страстей и песен». В стихотворении, адресованном ее возлюбленному Борису Васильевичу Анрепу, «Нет, царевич, я не та» (в переводе «Нет, царевич, я не тот» 19).90), вышедшей первоначально в Северных записках ( Северные записки , 1915), она фиксирует ее превращение из влюбленной женщины в пророчицу: «И уста мои уже не целуют / Целуют — пророчат».
Родившаяся в канун дня святого Иоанна, особого дня в славянском народном календаре, когда считалось, что ведьмы и демоны свободно бродят, Ахматова считала себя ясновидящей. Многие из ее современников признавали ее дар пророчества, и она иногда называла себя Кассандрой в своих стихах.
Независимо от того, предвидела ли «предсказательница» Ахматова беды, ожидавшие ее в советском государстве, она никогда не рассматривала эмиграцию как жизнеспособный вариант — даже после революции 1917 года, когда многие ее близкие друзья уезжали и увещевали ее следовать за ней. Большую часть революционных лет она провела в Петрограде (бывшем Санкт-Петербурге) и пережила крайние лишения. В тяжелые годы Гражданской войны в России (1918-1920) она проживала в Шереметевском дворце, также известном как Фонтанный дом, одном из самых изящных дворцов в городе, который был «национализирован» правительством. большевистское правительство; большевики регулярно переоборудовали заброшенные особняки русских дворян, чтобы предоставить жилые помещения видным ученым, художникам и чиновникам, которые считались полезными для вновь созданного государства рабочих и крестьян.
Ахматова смогла жить в Шереметевском дворце после замужества, в 1918, Шилейко — поэт, близкий к гильдии акмеистов, блестящий ассириец, профессор Археологического института. За неоценимый вклад в науку Шилейко были отведены комнаты в Шереметевском дворце, где он и Ахматова жили с 1918 по 1920 годы.
Дворец был построен в XVIII веке для одного из богатейших аристократов и меценатов России, Граф Петр Борисович Шереметьев. Для Ахматовой этот дворец ассоциировался с дореволюционной культурой; она прекрасно понимала, что многие 19здесь общались поэты X века, в том числе Александр Сергеевич Пушкин и Петр Андреевич Вяземский.
В течение нескольких лет после революции большевистское правительство было занято войной на несколько фронтов и мало вмешивалось в художественную жизнь. Этот короткий период, казалось бы, абсолютной творческой свободы породил русский авангард. По городу проводилось множество литературных мастер-классов, и Ахматова была частой участницей поэтических чтений.
Большинство ее стихов того времени собраны в двух книгах, Подорожник и Anno Domini MCMXXI (1922). Среди ее самых ярких тем этого периода — эмиграция друзей и ее личная решимость остаться в своей стране и разделить ее судьбу. В стихотворении «Ты — отступник: за остров зеленый» (от Подорожник; в переводе «Ты отступник: за зеленый остров», 1990), впервые опубликованном в Воля народа ( Народная воля ) на 13 апреля 1918 года, например, она упрекает своего возлюбленного Анрепа в том, что он бросил Россию ради «зеленого острова» Англии. Вспоминая Россию, она создает стилизованный, сказочный образ мирной страны сосновых лесов, озер и икон — образ, навеки искалеченный разрушительной войной и революцией: «Ты отступник: за зеленый остров / Ты предал, предал родную землю, / Наши песни и наши иконы / И сосну над тихим озером». Предательство Анрепом России сливается со старой ахматовской темой личного забвения, когда в последней строфе она обыгрывает значение своего имени Анна, означающего благодать: «Да, ни битвы, ни море не страшны / Утраченной благодати».
Твердая позиция Ахматовой против эмиграции коренилась в ее глубоком убеждении, что поэт может поддерживать свое искусство только на родине. Прежде всего определяя свою идентичность как поэта, она считала русскую речь своей единственной настоящей «родиной» и решила жить там, где на ней говорят. Позже советские литературоведы, стремясь переделать творчество Ахматовой в приемлемом русле соцреализма, привнесли в интерпретацию ее стихов об эмиграции чрезмерный, грубый патриотизм. Например, стихотворение «Когда в тоске самоубийства» (в переводе «Когда в суицидальной тоске» 19).90), опубликованный в Воля народа 12 апреля 1918 года и включенный в Подорожник , обычно появлялся в советских изданиях без нескольких вступительных строк, в которых Ахматова передает свое понимание жестокости и утраты традиционных ценностей, которые держались власть в России во время революционной смуты; этот период был «Когда столица у Невы, / Забыв свое величие, / Как пьяная проститутка, / Не знала, кто ее следующий возьмет».
Роман Давидович Тименчик предложил библейский источник для сравнения российской имперской столицы с пьяной проституткой. Пророк Исайя изображает евреев «грешным народом», их страну «пустыней», а их столицу Иерусалим «блудницей»: «Как верный город сделался блудницей! он был полон осуждения; праведность поселилась в нем; а теперь убийцы» (Исаия 1:21). Кроме того, Ахматова сообщает о «голосе», который звал ее «утешительно», предлагая эмиграцию как способ убежать от живого ада российской действительности. Но ее героиня отвергает новое имя и личность, которыми соблазнил ее «голос»: «Но спокойно и равнодушно, / Я руками уши закрыла, / Чтоб дух мой скорбный / Не запятнался бы теми позорными словами. ». Вместо того, чтобы запятнать свою совесть, она полна решимости сохранить пятна крови на своих руках как знак общей судьбы и своей личной ответственности, чтобы сохранить память о тех драматических днях.
В «Петрограде, 1919» (перевод, 1990) из Anno Domini MCMXXI Ахматова повторяет свой нелегкий личный выбор отказаться от свободы ради права остаться в любимом городе:
Никто нам не хотел помочь
За то, что мои остались дома,
За то, что, город своей любви,
А не крыловоду,
Мои сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.(Никто не хочет нам помогать
Потому что мы остались дома,
Потому что, любя наш город
И не крылатая свобода,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, его огонь и вода.В стихотворении «Нестемия, кто бросил землю» (в переводе «Я не с теми, кто покинул свою землю», 1990 г.), написанном в 1922 г. и опубликованном в г. Anno Domini. Стихотворения. Книга третья ( Anno Domini. Стихи. Книга третья , 1923), дополненное издание Anno Domini MCMXXI , она противопоставляет себя тем, кто покинул Россию, но сожалеет о своей печальной доле пришельцев в чужой стране: « Я не с теми, кто оставил землю свою / На терзания врага… / Но мне изгнание навеки жалко». Из-за года написания поэмы «враг» здесь не Германия — война закончилась в 1918—но большевики.
Ахматова и Шилейко вскоре после свадьбы стали несчастливы, но время от времени прожили вместе еще несколько лет. Когда в 1924 году ему выделили две комнаты в Мраморном дворце, она переехала к нему и жила там до 1926 года.
Этот дворец на набережной Невы, в непосредственной близости от Зимнего дворца, первоначально был построен для графа Григория Орлова, фаворитом Екатерины Великой, а затем перешел в руки великих князей. Но, несмотря на «царское» жилье, еды, спичек и почти всех других товаров не хватало. И Ахматова, и ее муж были заядлыми курильщиками; каждый день она начинала с того, что выбегала из своей неотапливаемой дворцовой комнаты на улицу просить у прохожего огня.
В 1920-е годы более эпические темы Ахматовой отражали непосредственную реальность с точки зрения человека, ничего не выигравшего от революции. Она оплакивала культуру прошлого, уход друзей и личную потерю любви и счастья — все это противоречило оптимистичной большевистской идеологии. Критики стали называть Ахматову «пережитком прошлого» и «анахронизмом». Ее критиковали по эстетическим соображениям коллеги-поэты, которые воспользовались радикальными социальными изменениями, экспериментируя с новыми стилями и предметами; они отвергли более традиционный подход Ахматовой.
В конце концов, когда железная хватка государства ужесточилась, Ахматову объявили идеологическим противником и «внутренней эмигранткой». Наконец, в 1925 все ее публикации были официально запрещены. Государство разрешило издать следующую после Anno Domini книгу Ахматовой под названием Из шести книг ( Из шести книг ) только в 1940 году. ее жизнь. Если не считать недолгой работы библиотекарем в Агрономическом институте в начале 1920-х годов, она никогда не зарабатывала на жизнь ничем, кроме как писателем. Поскольку все литературное производство в Советском Союзе теперь регулировалось и финансировалось государством, она была отрезана от своего самого непосредственного источника дохода. Однако, несмотря на фактическое исчезновение ее имени из советских публикаций, Ахматова оставалась чрезвычайно популярной как поэт, а ее притягательная личность продолжала привлекать новых друзей и поклонников. Помощь, которую она получила от своего «окружения», вероятно, позволила ей пережить невзгоды этих лет.
Время от времени, благодаря самоотверженным усилиям ее многочисленных друзей, ей заказывали стихи. Помимо перевода стихов, она также занималась литературоведением. Ее очерки о Пушкине и его творчестве были посмертно собраны в О Пушкине ( О Пушкине , 1977).
В 1926 году Ахматова и Шилейко развелись, и она переехала на постоянное жительство к Николаю Николаевичу Пунину и его большой семье, которые жили в том же Шереметевском дворце на реке Фонтанке, где она жила несколькими годами ранее. Как Гумилев и Шилейко, первые два мужа Ахматовой, Пунин был поэтом; его стихи были опубликованы в акмеистическом журнале Аполлон. Он впервые встретился с Ахматовой в 1914 году и стал частым гостем в доме, который она тогда делила с Гумилевым. До революции Пунин занимался византийским искусством и участвовал в создании Отдела иконописи в Русском музее. После 1917 лет он стал поборником авангардного искусства. Большевистское правительство оценило его усилия по продвижению новой, революционной культуры, и он был назначен комиссаром Народного комиссариата просвещения (Народного комиссариата просвещения или Министерства просвещения), также известного как Наркомпрос.
Большую часть своей карьеры Пунин был связан с Русским музеем, Академией художеств и Ленинградским государственным университетом, где заработал репутацию талантливого и интересного лектора. К 1922 году ему, как крупному искусствоведу, разрешили жить на квартире во флигеле Шереметевского дворца. Примерно к этому же году относится роман Ахматовой с Пуниным, и в течение следующих нескольких лет она часто подолгу жила в его кабинете. Хотя дворец был ее резиденцией на то короткое время, что она была с Шилейко, он стал ее постоянным домом после того, как она снова переехала туда, чтобы быть с Пуниным. Неизбежно, это послужило декорацией для многих ее работ.
Пунин, которого Ахматова считала своим третьим мужем, в полной мере воспользовался относительно просторной квартирой и заселил ее своими сменяющими друг друга женами и их семьями. Обустройство Фонтанного дома было типичным для советского образа жизни, который страдал от нехватки пространства и уединения. В течение многих лет Ахматова делила свою квартиру с первой женой, дочерью и внучкой Пунина; после разлуки с Пуниным в конце 1930-х годов она жила затем с его следующей женой.
Несмотря на шум и общую неловкость обстановки, Ахматова, казалось, не возражала против коммуналки и сумела сохранить свой царственный облик даже в тесной, неухоженной и плохо обставленной комнате. Лидия Корнеевна Чуковская, автор и близкая знакомая Ахматовой, которая вела дневники их встреч, уловила противоречие между достойным жителем и убогой обстановкой. В Записки об Анне Ахматовой ( Записки об Анне Ахматовой , 1976; переводится как Журналы Ахматовой , 1994), в записи от 19 августа 1940 года Чуковская описывает, как Ахматова сидела «прямо и величественно в одном углу оборванный диван, очень красивый».
За долгий период навязанного молчания Ахматова не написала много оригинальных стихов, но то немногое, что она сочинила — тайно, под постоянной угрозой обыска и ареста — является памятником жертвам Иосифовского террора. Между 1935 и 1940 г. сочинила большую поэму « Реквием » (1963; переведена как « Реквием » в «Избранные стихи » [1976]), опубликованную впервые в России в годы перестройки в журнале Октябрь ( Октябрь) в 1989 году.
Она строчка за строчкой прошептала ее ближайшим друзьям, которые быстро запомнили услышанное. Затем Ахматова сжигала в пепельнице клочки бумаги, на которых она написала « Реквием». Если бы эта поэма была обнаружена тайной полицией, это могло бы спровоцировать новую волну арестов за подрывную деятельность.
Как сообщает Ахматова в коротком прозаическом предисловии к произведению, Реквием был задуман, когда она стояла в очереди перед центральной тюрьмой в Ленинграде, известной в народе как Кресты, ожидая известий о судьбе сына. Талантливый историк, Лев большую часть времени с 1935 по 1956 год провел в исправительно-трудовых лагерях — его единственное преступление заключалось в том, что он был сыном «контрреволюционера» Гумилева. Прежде чем его в конечном итоге отправили в лагеря, Лев сначала содержался в Крестах вместе с сотнями других жертв режима. Эпоха чисток характеризуется Реквием как время, когда, «как бесполезный придаток, Ленинград / Качал из своих тюрем».
Ахматова посвятила стихотворение памяти всех, кто разделил ее судьбу, кто видел, как близких утаскивали среди ночи на пытки и репрессии: скорбящий…»
Без объединяющего и последовательного размера, разбитого на строфы различной длины и рифмовки, Реквием выражает распад себя и мира. Смешивая различные жанры и стили, Ахматова создает поразительную мозаику из народно-песенных элементов, народных траурных обрядов, евангелий, одической традиции, лирической поэзии. Она возрождает эпическую условность заклинаний, обычно адресованных музе или божеству, вызывая вместо этого Смерть — в других местах называемую «блаженной». Смерть — единственное спасение от ужаса жизни: «Ты все равно придешь — так почему бы не сейчас? / Жду тебя — больше не могу. / Я погасил свет и открыл дверь / Для тебя, такой простой и чудесной».
В эпилоге, визуализируя памятник, который может быть поставлен ей в будущем, Ахматова вызывает тему, восходящую к оде Горация «Exegi Monumentum aere perennius» («Я воздвиг памятник крепче бронзы», 23 г.
до н. э.). Эта тема оказалась неизменно популярной в европейской литературе на протяжении последних двух тысячелетий, и пушкинский «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836 г.) стал ее самой известной адаптацией в русском стихе. Гораций и его последователи использовали образ памятника как аллегорию своего поэтического наследия; они считали, что стихи обеспечивают посмертную славу лучше, чем любая осязаемая статуя. Ахматова же говорит буквально о бронзовом памятнике себе, который надо поставить перед тюремными воротами:
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,Согласие на это даю торжество,
Но только с условием—не ставить егоНи около моря, где я родилась;
Последняя с морем разорвана связь.Ни в царском саду у заветного пня,
Где десять безутешная ищет меня,А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
(И если когда-нибудь в этой стране
Мне решили поставить памятник,Я согласен на эту честь
При этих условиях — что стоятьНи у моря, где я родился:
Моя последняя связь с морем разорвана,Ни в царском саду у заветного пня,
Где ищет меня безутешная тень,Но здесь, где я стоял триста часов,
И где мне никогда не отпирали двери.)
Ахматова находит другую, гораздо более личную метафору значимости своего поэтического наследия: ее стихотворение становится «словесной мантией», накинутой на людей, которых она желает увековечить. Она пишет: «Хотелось бы назвать всех по именам, / Но список изъят и нигде не найден. / Я соткал им широкий плащ / Из их скудных, подслушанных слов». Изображение мантии напоминает защитный покров, который, согласно раннехристианскому преданию, Богородица накрыла прихожанами в византийском храме, событие, ежегодно отмечаемое праздником в православном календаре. Ахматова, хорошо разбирающаяся в христианских верованиях, переосмысливает эту легенду, чтобы отразить ее собственную роль искупительницы своего народа; она плетет мантию, которая защитит память о жертвах и тем самым обеспечит историческую преемственность. 9Таким образом, 0259 Реквием является свидетельством катарсической функции искусства, которая сохраняет голос поэта даже перед лицом невыразимого.
В более поздний период творчества Ахматовой, возможно, отражая ее поиски самоопределения, тема поэта становится все более доминирующей в ее стихах.
Она всегда верила в «святое ремесло» поэта; она писала в «Нашем священном ремесле» («Наше святое ремесло», 1944; впервые напечатано в Знамя , 1945): «Наше святое ремесло / Тысячу лет существовало… / С ним даже мир без света был бы ярок». Она также верила в общий поэтический жребий. В коротком довоенном цикле под названием «Тростник» (в переводе Тростник , 1990) и впервые опубликованная как «Ива» (Верба) в сборнике 1940 года Из шести книг , Ахматова обращается ко многим поэтам, живым и умершим, в попытке сосредоточить внимание на архетипических чертах их судеб. Жизнь поэта, как становится ясно из этого цикла, определяется изгнанием, понимаемым как буквально, так и экзистенциально. Данте Алигьери является для Ахматовой прототипом поэта-изгнанника, тоскующего по родной земле: «Но босой, во власянице, / С зажженной свечой не ходил / По своей Флоренции — своей возлюбленной, / Вероломной, подлой, желанной… («Данте», 1936). Среди ссыльных русских поэтов, которых упоминает Ахматова, есть Пушкин; Михаил Юрьевич Лермонтов, посланный царем на далекий Кавказ; и ее друг и современник Мандельштам, который по приказу Сталина был заключен в провинциальный город Воронеж.
Она даже включает себя в этот собирательный образ ссыльного поэта, только изгнание у нее не из места, а из времени. Пребывая во мраке советской жизни, Ахматова тосковала по прекрасному и радостному прошлому своей юности. В лирике «Тот город, мнои любимый с детства» (в переводе «Город, любимый мною с детства», 1990), написанной в 1929 году и изданной в Из шести книг , она изображает себя иностранкой в своем родном городе Царском Селе, месте, которое теперь неузнаваемо:
Тот город, многие любимые с детства,
В его декабрьской тишине
Моим промотанным наследием
Сегодня показала мне.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
№ с любовью иностранки,
Пленной каждой новизной,
Глядела я, как мчатся санки,
Я слушала язык родной.
(Город, любимый мною с детства,
Мне показалось сегодня
В своей декабрьской тишине
Как и мое растраченное наследство.
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Но с чужим любопытством,
В плену каждой новинки,
Я смотрел, как скользили сани,
И слушал родной язык.)В основе всех этих размышлений о поэтической судьбе лежит фундаментальная проблема взаимоотношений поэта и государства. Ахматова предполагает, что, хотя поэт находится во власти диктатора и уязвим для преследований, запугиваний и смерти, его искусство в конечном итоге преодолевает все притеснения и передает правду. С этой точки зрения название «Тростник» символично для слова поэта, которое никогда нельзя замолчать. Образ тростника берет свое начало в восточной сказке о девушке, убитой братьями и сестрами на берегу моря. Согласно легенде, вскоре из лужи ее пролитой крови вырос тростник, и когда позже пастух перерезал тростник в трубку, инструмент пропел историю об убийстве несчастной девушки и предательстве ее братьев и сестер.
В 1940 году Ахматова написала большое стихотворение «Путем всей земли» (опубликовано в Бег времени [ Бег времени ], 1965; перевод «Путь всей земли», 1990), в котором она медитирует о смерти и оплакивает грядущую гибель Европы в горниле войны.
Ее память переносит ее на рубеж веков и ведет через места самых важных военных столкновений, включая англо-бурскую войну, уничтожение русского флота в Цусиме и Первую мировую войну, которые предвещали катастрофу для Европы. В эту жуткую панораму прошлого вплетены личные воспоминания о Санкт-Петербурге и Крыму. Несмотря на насущный апокалиптический настрой стихотворения, героиня спокойно созерцает свою приближающуюся смерть, конец, обещающий облегчение и возвращение в «отчий сад»: «И место свое займу спокойно / В легких санях… / В моем последнем жилище / Положи меня на покой». Здесь Ахматова перефразирует слова средневекового русского князя Владимира Всеволодовича Мономаха, фигурирующие в его «Поучении» (Наставление, около 1120 г.), которые он произнес, обращаясь к своим детям, со смертного одра (представленного в виде «сани», употребленного древние славяне перевозили трупы для захоронения). В «Путем всей земли» Ахматова берет на себя аналогичную роль и говорит как мудрый, опытный учитель, наставляющий своих соотечественников.
Первые месяцы Великой Отечественной войны Ахматова провела в Ленинграде. По мере ужесточения немецкой блокады вокруг города многие писатели, музыканты и представители интеллигенции обратились к своим землякам в серии специальных радиопередач, организованных литературоведом Георгием Пантелеймоновичем Макагоненко. Участвуя в этих передачах, Ахматова вновь стала символом своего страдающего города и источником вдохновения для его жителей. В конце сентября 1941 г. уехала из Ленинграда; вместе со многими другими писателями она была эвакуирована в Среднюю Азию. Но даже из Ташкента, где жила до 19 мая44, ее слова дошли до людей. Ее поэтический голос, ставший в предвоенные годы более эпическим и философским, приобрел в стихах военного времени отчетливую гражданскую интонацию. Самым известным из этих стихотворений, впервые опубликованным 8 марта 1942 года в газете Правда ( Правда ) и опубликованным позднее в Бег времени , является «Мужество» (в переводе «Мужество», 1990), в котором поэтесса призывает своих соотечественников прежде всего беречь русский язык: «И мы сохраним тебя, русское слово, / Могучее русское слово! / Внукам нашим мы тебя передадим / Свободным и чистым и спасенным из плена / Навеки!» Здесь, как и во время революции, патриотизм Ахматовой является синонимом ее стремления служить хранительницей вымирающей культуры.
В Ташкенте Ахматова часто декламировала стихи на литературных сборах, в госпиталях и в Военной академии имени Фрунзе. После выздоровления от тяжелого случая сыпного тифа в 1942 году она начала писать свою отрывочную автобиографию. Очарованная узбекской обстановкой, она посвятила своему «азиатскому дому» несколько коротких поэтических циклов, в том числе «Луна в зените: Ташкент 1942-1944» (в переводе «Луна в зените», 1990), изданная в виде книги в году. Начало времени . Особое отношение Ахматовой к Ташкенту стимулировалось ее верой в собственное азиатское происхождение, как она пишет в цикле «Луна в зените»: «Я не была здесь семьсот лет, / Но ничего не изменилось…».
Ахматова вернулась в Ленинград поздней весной 1944 года, полная новых надежд и светлых ожиданий. За год до этого, в связи с временным ослаблением государственного контроля над искусством во время войны, вышло ее « Избранное »; его издание было осуществлено при некотором содействии известного и влиятельного писателя Алексея Николаевича Толстого.
Более того, она собиралась выйти замуж за видного врача и профессора медицины Владимира Георгиевича Гаршина, с которым познакомилась еще до войны. Они регулярно переписывались во время пребывания Ахматовой в Средней Азии, и Гаршин в одном из своих писем сделал предложение руки и сердца. Однако после ее приезда в Ленинград он разорвал помолвку, что она приписала его наследственному психическому заболеванию — он был родственником эмоционально неуравновешенного 19Русский писатель X века Всеволод Михайлович Гаршин, покончивший с собой, бросившись с лестницы. Тем не менее, есть данные, свидетельствующие о том, что настоящей причиной стал роман Гаршина с другой женщиной. Ахматова неохотно вернулась жить в Шереметевский дворец. Ее сын Лев, освобожденный из лагерей в конце войны и отправленный на фронт для участия в штурме Берлина, был восстановлен в Ленинградском государственном университете и допущен к научной работе. К 1946 Ахматова готовила еще одну книгу стихов.
Как только ее жизнь, казалось, начала улучшаться, она стала жертвой очередной яростной атаки правительства.
Вероятнее всего, его спровоцировали два визита Исайи Берлина, который только из-за своего поста в британском посольстве естественно подозревался советскими чиновниками в шпионаже. Осенью 1945 года через общего знакомого Берлин устроил два частных визита к Ахматовой и снова увидел ее в январе 1946 года. Ахматова всегда дорожила воспоминаниями о своих ночных беседах с Берлином, сам по себе блестящим ученым. Вдохновленная их встречами, она сочинила любовный цикл «Чинкве» (впервые опубликованный в журнале Ленинград в 1946 г.; пер., 1990), вошедший в «Бег времени»; , в частности, он гласит: «Звуки замирают в эфире, / И мрак настигает сумерки. / В мире, ставшем навеки немым, / Есть только два голоса: твой и мой».
Она заплатила высокую цену за эти моменты счастья и свободы. В постановлении Коммунистической партии от 14 августа 1946 года два журнала, Звезда и Ленинград , были выделены и подвергнуты критике за публикацию произведений Ахматовой и писателя Михаила Михайловича Зощенко, признанных недостойными и упадническими.
В осуждающей речи секретарь партии назвал стихи Ахматовой пессимистическими и укорененными в буржуазной культуре; ее называли «монахиней» и «шлюхой», причем ее критики-коммунисты заимствовали термины из «1923 монографии. Ахматова испытала драматические последствия. Ее исключили из Союза советских писателей; потеря этого членства означала серьезные трудности, поскольку в то время запасы продовольствия были скудными, и только члены Союза имели право на продовольственные карточки. Почти все экземпляры ее недавно изданных книг были уничтожены, а дальнейшая публикация оригинальных стихов запрещена. Самое примечательное, Лев, только что защитивший диссертацию, был вновь арестован в 1949 году.
Ситуация казалась настолько безвыходной, что друзья посоветовали Ахматовой купить помилование сына, скомпрометировав ее дар поэзии. В сталинской России от всех художников ожидалось, что они будут защищать коммунистическое дело, и для многих время от времени применение своих талантов в этих целях было единственным путем к выживанию.
Вынужденная пожертвовать своей литературной репутацией, Ахматова написала дюжину патриотических стихов на предписанные советские темы; она восхваляла Сталина, прославляла Родину, писала о «счастливой» жизни в Советском Союзе и разоблачала «ложь» о ней, распространявшуюся на Западе. Опубликовано в журнале Огонек ( Пламя ) в 1949-1950 годах цикл «Слава миру» (Восхваление мира) был отчаянной попыткой спасти Льва. Такое восхваление палача его жертвой, одетой, однако, в утонченном классическом метре Ахматовой, не убедило даже самого Сталина. Ей не удавалось сделать так, чтобы ее пропагандистские стихи звучали достаточно искренне, и потому они оставались напрасной жертвой — еще одним свидетельством художественного гнета при советской власти.
Самым значительным творчеством Ахматовой позднего периода и, пожалуй, ее шедевром было Poema bez geroia (в переводе Poem Without a Hero , 1973), начатая в 1940 году и неоднократно переписывавшаяся и редактируемая до 1960-х годов; оно было опубликовано в «Бег времени » в 1965 году.
Это стихотворение-повествование — самое сложное у Ахматовой. В нем есть резкие сдвиги во времени, разрозненные образы, связанные лишь косвенными культурными и личными аллюзиями, полуцитаты, внутренняя речь, эллиптические пассажи, различные размеры и строфы. Темы этой поэмы (длинной повествовательной поэмы) можно сузить до трех: память как нравственный акт; ритуал искупления; и погребальный плач. Встреча с прошлым в Poema bez geroia , Ахматова обращается к 1913 году, до того, как «настоящий — не календарный — ХХ век» был открыт его первой глобальной катастрофой, Первой мировой войной. Это время ее юности было отмечено элегантным, беззаботным декадентством ; эстетические и чувственные удовольствия; и отсутствие заботы о человеческих страданиях или ценности человеческой жизни. Тени прошлого предстают перед поэтессой, когда она сидит в своем освещенном свечами доме накануне 1940 года. Ее знакомые, уже все мертвые, прибывают в образе различных персонажей комедии дель арте и вовлекают поэта в «адскую арлекинаду».
Маски гостей ассоциируются с несколькими выдающимися деятелями искусства модернистского периода. Ахматова использует Poema bez geroia отчасти для того, чтобы выразить свое отношение к некоторым из этих людей; например, поэта-гомосексуалиста Михаила Алексеевича Кузьмина, критиковавшего ее стихи в 1920-е годы, она превращает в сатану и архигрешника своего поколения. Среди этой сюрреалистичной и праздничной толпы появляются и ее бывшие друзья и любовники. Как единственная оставшаяся в живых из этого богемного поколения («Только как это случилось / Что я один из всех жив до сих пор?»), она чувствует себя обязанной искупить коллективные грехи своих друзей — акт искупления будет обеспечить лучшее будущее для своей страны. Одним из лейтмотивов этого произведения является прямая связь между прошлым, настоящим и будущим: «Как в прошлом зреет будущее, / Так в будущем гниет прошлое…» Сцены из 1913 следуют отрывки из «Части третьей: Эпилог» (Часть третья: Эпилог), описывающие нынешний ужас войны и лагерей, расплату за греховное прошлое:
А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей —
Я не знаю, который год—
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет.(И из-за колючей проволоки,
В самом сердце тайги —
Я не знаю, какой год —
Став кучей «лагерной пыли»,
Став страшной сказкой,
Мой двойник едет на допрос.)Ахматова находит коллективную вину в маленьком частном событии: бессмысленном самоубийстве молодого поэта и солдата Всеволода Гаврииловича Князева, покончившего с собой из безответной любви к Ольге Афанасьевне. Глебова-Судейкина, красивая актриса, подруга Ахматовой; Ольга становится дублером самого поэта. Хотя самоубийство Князева — центральное событие поэма, он не настоящий герой, так как его смерть наступает не на поле боя, а в момент эмоциональной слабости. Другие тени прошлого, как Князев, не могут быть квалифицированы как герои, и поэма остается без них. Ученые сходятся во мнении, что единственным настоящим героем произведения является само Время. По сути « Poema bez geroia » напоминает мозаику, изображающую художественную и причудливую юность Ахматовой в 1910-е годы в Санкт-Петербурге.
Отождествляя себя со своим поколением, Ахматова в то же время выступает как хор древних трагедий («И роль рокового хора / Согласен взять на себя»), функция которого — обрамлять события, о которых она рассказывает, комментариями, поклонение, осуждение и плач. Более того, негативная эстетика играет важную роль в Поэма без героя. Они выражаются, в частности, не только в отсутствии конкретного героя, но и в многоточиях, которые Ахматова вставляет, чтобы обозначить темы, которые не могли обсуждаться открыто из-за цензуры. Другим фокусом стихотворения являются несобытия, такие как пропущенная встреча с гостем, который должен зайти к автору: «Он придет ко мне в Фонтанный дворец / Пить новогоднего вина / И он опоздает на этот туманная ночь». Отсутствующий персонаж, о котором поэт говорит далее как о «госте из будущего», не может присоединиться к теням друзей Ахматовой, потому что он еще жив. Этот таинственный гость был идентифицирован как Берлин, визит которого к Ахматовой в 1945 повлекло за собой столь драматические последствия для ее сына и для нее самой (отсюда строчка «Смерть он несет»).
В 1956 году, когда Берлин был в краткосрочной командировке в России, Ахматова отказалась его принять, предположительно из страха за Льва, только что вышедшего из тюрьмы. С Берлином она разговаривала только по телефону, и эта «невстреча» впоследствии фигурировала в Poema bez geroia в виде туманных намеков. Цикл Ахматовой «Шиповник цветет» (изд. «Бег времени»; в переводе «Шиповник в цвету», 1990), в которой рассказывается о встречах с Берлином в 1945-1946 гг. и о несовещании в 1956 г., имеет много общих ссылок с Poema bez geroia.
Наконец, как и подобает современной повествовательной поэме, самое сложное произведение Ахматовой включает в себя метапоэтическое содержание. В «Часть вторая: Интермеццо. Решка» (Часть вторая: Интермеццо. Хвосты) Поэмы без героии рассказчица спорит со своим редактором, который жалуется, что произведение слишком малоизвестно, а затем прямо обращается к поэма как персонаж и собеседник. Ахматова знала, что Poema bez geroia будет считаться эзотерической по форме и содержанию, но намеренно отказалась давать какие-либо разъяснения.
Во время интервью Берлину в Оксфорде в 1965 году на вопрос, планирует ли она аннотировать произведение, Ахматова ответила, что оно будет похоронено вместе с ней и ее веком, что оно написано не для вечности или потомков, а для тех, кто еще помнит мир, который она описала в нем. В самом тексте она признает, что ее стиль — «секретное письмо, криптограмма, / Запрещенный метод», и признается в использовании «невидимых чернил» и «зеркального письма». 9«0259 Poema bez geroia » свидетельствует о сложности позднего стиха Ахматовой и остается одним из самых увлекательных произведений русской литературы ХХ века.
В 1952 году Ахматова и Пунины с большим неудовольствием выселились из Фонтанного дома, полностью отданного Арктическому институту, и поселились в другой части города. Несмотря на ухудшение здоровья, последнее десятилетие жизни Ахматовой было достаточно спокойным, отражая политическую «оттепель», наступившую после смерти Сталина в 1919 г.53. Лев был освобожден из тюрьмы в 1956 году, а несколько томов ее стихов, хотя и подвергшихся цензуре, были опубликованы в конце 1950-х и 1960-х годах.
В этот же период вышел ее самый важный сборник стихов. Вышедший в 1965 году « Бег времени » собрал стихи Ахматовой с 1909 года и включил в себя несколько ранее изданных книг, а также неизданную «Седьмую книгу». К этому времени ей было далеко за 70, и ей разрешили совершить две поездки за границу: в 1964 году она поехала в Италию, чтобы получить международную премию Этна Таормина в области поэзии, а в 19В 65 лет она уехала в Англию, где была удостоена звания почетного доктора Оксфордского университета. Во время второй поездки она ненадолго остановилась в Париже, чтобы навестить своих старых друзей, покинувших Россию после революции.
Анна Андреевна Ахматова скончалась 5 марта 1966 года в Домодедово (Подмосковье), где лечилась от сердечного приступа. После официальной панихиды в столице ее тело было доставлено в Ленинград для богослужения в Никольском соборе. Похоронена в Комарово, расположенном в пригороде Ленинграда и наиболее известном как место отдыха; в 1960-х жила в Комарово на небольшой даче, предоставленной Литературным фондом.
Полного признания в родной России Ахматова добилась только в конце 1980-х годов, когда все ее ранее не публиковавшиеся произведения наконец стали доступны широкой публике. В 1989 году ее столетие было отмечено множеством культурных мероприятий, концертов и поэтических чтений. Коммунальная квартира в Шереметевском дворце, или Фонтанном доме, где она жила с перерывами почти 40 лет, теперь является музеем Анны Ахматовой.
Владимир Маяковский — Приключения в советском воображаемом:
Введение
Советские детские книги и плакаты во многом обязаны своим враждебным внешним видом и звучанием поэту Владимиру Маяковскому (1893-1930). Маяковский был самым выдающимся из многих художников-авангардистов, которые, движимые идеологической приверженностью и финансовой необходимостью, изменили популярный медиа-ландшафт России в течение 1920-х годов. Целью была агитация за реформу как общественных институтов, так и индивидуального сознания, а средства, найденные Маяковским, представляли собой необычайно дерзкое и яркое сочетание изобретательности, абстракции, юмора и ума.
Под его пером русская поэзия заговорила более гибкой и выразительной (даже анархической) игрой звука и ритма. Плодотворная Агния Барто говорила за многих, когда назвала свое открытие поэзии Маяковского «поворотным моментом» в своем развитии как детской писательницы.[1]
Маяковский, художник по образованию, инициировал плакаты в стиле мультфильмов. Названные Окна Роста («Окна РОСТА», Российское телеграфное агентство), они заполняли пустые витрины магазинов во время разрушительной Гражданской войны. Используя простые трафаретные формы и острые рифмы, команда художников и поэтов обрушивалась на врагов молодого советского государства и превозносила достоинства крестьян и рабочих. Одним из ближайших сотрудников Маяковского по плакатам был Владимир Лебедев (1891–1967), впоследствии ставший иллюстратором детских книг, в том числе многих Самуила Маршака. В последующие годы Маяковский оставался открытым для изучения новых прикладных применений своей поэзии, от рекламы и лозунгов до педагогических произведений для детей.
Кем мне быть?
Маяковский написал четырнадцать стихотворений для детей, используя игру слов и ступенчатые, ступенчатые стихи, чтобы разделить язык на части и позволить детям собрать его по-новому. Кемь быть ? (Кем мне стать?) побуждает детей создавать свою собственную личность, даже если это направляет их желание в конкретные существующие роли. Маяковский завещал советской детской поэзии живой и гибкий язык, одинаково подходящий как для визуального представления, так и для чтения вслух. Ниссон Шифрин разработал книгу таким образом, что последовательные строфы, кажется, пересекаются и перекрываются; в результате получается не линейное повествование, а калейдоскопическая фантазия обо всех различных профессиях, одна лучше другой, вплоть до заключительных (несколько неграмотных) строк:
«Вывернув книгу наизнанку
Береги ее в сердце:
Все работы тебе по душе:
Выбери
на свой вкус!»Укрощение Маяковского
Стилистическое развитие книг на стихи Маяковского наглядно иллюстрирует, как его буйная личность была укрощена после самоубийства в 1930 году.
Разница видна и при сравнении изданий 1932 и 1947 годов Кем мне быть? , где абстрактные изображения конструктивистских зданий заменены реалистическими изображениями неоклассических зданий. Фигуративные иллюстрации Андрея Брея к Гуляем («Прогуливаясь») также укрощает анархический текст Маяковского, впервые опубликованный в 1926 году. Старуха, ошибочно верящая в церкви и иконы, выглядит образцом не столько православия, сколько буржуазного излишества. Для этого издания из текста Маяковского были исключены два места, а именно те, которые критикуют «буржуа» с выдающимся «животом» и сплетницу «барыню», которая вместо того, чтобы работать, пудрится. Очевидно, язык и образность Маяковского в этих двух пассажах были слишком дерзкими для советских вкусов к 19 веку.38.
Для издания 1948 года Эта книжечка моя про море и про майак Владимир Александрович Тамби дает реалистичные формы в спокойных сине-зеленых тонах. Он выводит из себя заключительные строки (по каламбуру, поскольку в имени поэта было слово «маяк»):
Моя книга зовет:
«Дети, будьте как маяк!
Освети путь всем
, кто не умеет плавать ночью.
Чтобы сказать вам это,
слова этой книги
и эскизы его рисунков
сделал
дядя
Маяковский!Даже преследуя четкие педагогические цели, детские стихи Маяковского сохраняют явный отпечаток негабаритной личности их автора.
Роберт Берд
[1] Агния Барто, Записки детского поэта (Москва: Советский писатель, 1976) С. 9-14.
Кем быть? (Кем мне быть?)
Владимир Маяковский. илл. Ниссон Абрамович Шифрин. Москва: ОГИЗ, Молодая гвардия, 1932. 4-е изд.
Эти страницы иллюстрируют профессию инженера.
Кем быть? (Кем мне быть?)
Владимир Маяковский. илл. А. Пахомова. М., Л.: Государственное издательство детской литературы, 1947.
Эти страницы соответствуют приведенным выше страницам из издания 1932 года.
Гулиэм (Прогулка)Владимир Маяковский.
